

 |
|
|

Произведения Ссылки |
Начало литературной деятельности (1833-1835)Любезная маменька! Давно уже не писал я к Вам; не знаю, в хорошую или дурную сторону толкуете Вы мое молчание. Как бы то ни было, на этот раз я желал бы не уметь ни читать, ни писать, ни даже чувствовать, понимать и жить!.. Не радостны были все мои письма с самого проклятого холерного года; но теперь я не могу без ужаса и подумать о том ударе, которым готовлюсь поразить Вас, мою мать... Девять месяцев таил я от Вас свое несчастие, обманывал всех чембарских, бывших в Москве, лгал и лицемерил, скрепя сердце... но теперь не могу более. Ведь когда-нибудь надобно же узнать Вам. Может даже быть, что Вы уже знаете, может быть, Вам сообщено это с преувеличениями, а Вы женщина и мать... Чего не надумаетесь Вы? При одной мысли об этом сердце мое обливается кровью. Я потому так долго молчал, что еще надеялся хотя сколько-нибудь поправить свои обстоятельства, чтобы Вы могли узнать об этом хладнокровнее... Вы знаете, что проходит уже четвертый год, как я поступил в университет; Вы, может быть, считаете по пальцам месяцы, недели, дни, часы, минуты, нас разделяющие, думаете с восхищением о том времени, о той блаженной минуте, когда нежданный и незваный, я, как снег на голову, упаду в объятия семейства кандидатом или, по крайней мере, действительным студентом!..* Мечта очаровательная! и меня обольщала она некогда! Но, увы! В сентябре исполнится год, как я - выключен из университета!!! Вы также, может быть, воображаете, что я скоро получу место учителя в гимназии и что приду в состояние быть опорою для Вас и братьев, и сестры - и я, точно, может быть, скоро буду учителем - но не в гимназии, а в уездном училище и еще в Белоруссии, даже, может быть, в самой Вильне, тысячи за две верст от Вас... * (Первые ученые степени, которые присваивались после окончания университета.) Но, маменька, все-таки умоляю Вас не отчаиваться и не убивать себя бесплодною горестью. Есть счастие и в несчастии, есть утешение и в горести, есть благо и в самом зле. Я видел людей в тысячу тысяч раз несчастнее себя и потому смеюсь над своим несчастием. Назад тому месяца два отдали в солдаты без выслуги* одного казенного студента за такой поступок, за который и трехдневное заключение в карцер было бы достаточным наказанием. Его в цепях посадили в яму вместе с ворами и убийцами и в цепях представили к коменданту для отправления в Грузию; но он заболел и теперь в Лефортовской больнице, может быть, с минуты на минуту, как небесного дара, ждет себе смерти**. А сколько выключено за ничто с худыми аттестатами, лишенных права служить!.. Что же я?.. я буду служить учителем...*** * (То есть без права стать офицером.) ** (Имеется в виду однокурсник Белинского А. П. Никольский. Проступок и дальнейшая судьба его неизвестны.) *** (Надежда Белинского на получение места учителя не оправдалась.) Теперь в коротких словах расскажу Вам мою печальную историю. Вышедши из больницы, я просил Голохвастова, чтобы он из уважения к моей долговременной болезни позволил мне в конце августа или начале сентября держать особенный экзамен. Он хотя и не обещал исполнить моей просьбы, но и не отказал, а сказал: хорошо, посмотрим. Я остался в надежде и с половины мая до самого сентября, несмотря на чрезвычайно худое состояние моего здоровья, работал и трудился, как черт, готовясь к экзамену. Но экзамена не дали, а вместо его уведомили меня о всемилостивейшем увольнении от университета. * (То есть отдельный, внеочередной.) Я перешел к Алексею Петровичу*, купил один французский роман в 4 частях, к Рождеству с великими трудами, просиживая иногда напролет целые ночи, а во время дня не слезая с места, перевел его, в надежде приобрести рублей 300; но фортуна и тут прежестоко подшутила надо мною: в газетах было объявлено о другом переводе сего самого сочинения, и потому я едва, едва могу получить 100 руб. ассигн. ...в половине великого поста я познакомился с профессором Надеждиным** и начал переводить в его журнал. На страстной неделе приехал в Москву попечитель Белорусского учебного округа... Григорий Иванович Карташевский, и издатель "Телескопа" попросил его, чтобы он дал мне место учителя в Белоруссии. * (К своему другу А. П. Иванову, уже служившему тогда в Москве.) ** (Николай Иванович Надеждин (1804-1856) - критик, профессор теории изящных искусств и археологии в Московском университете, с 1831 года стал редактором журнала "Телескоп".) Я имею две кондиции: приготовляю из словесности к поступлению в университет двух молодых людей... Эти-то кондиции и дали мне возможность нанять квартиру. Живу я теперь на Тверской улице, почти против дому генерал-губернатора*, в мезонине, который составляет собою третий этаж огромного дома... * (Теперь надстроенное здание Моссовета.) Теперь же дожидаюсь ваканции на место одного корректора в университетской типографии, который едет в Петербург определиться по гражданской части. Я было чуть не попал в корректоры, да покуда ждал бумаг от Карташевского, место заняли перед самою Пасхою. Если бы я получил мои бумаги на 2-й или 3-й неделе поста, то был бы теперь при месте. ...терплю и горя, но сношу его с твердостию, не огорчаюсь неудачами и все надеюсь - для Вас. Без Вас я действовал бы иначе; но я помню, что я не один в мире. Касательно квартиры скажу Вам, что по нынешнему времени она совсем не так дорога, как кажется Вам. Я мог бы найти даже рублей в 25; но в таком случае я не имел бы особенной* комнаты и принужден бы был жить с товарищами. На это я никак не соглашусь; мне хочется отдохнуть душою: я устал, очень устал. К тому же мне надобно заниматься, учиться, ибо от этого зависит будущее счастие всей моей жизни. Да и кроме того, наука есть мое счастие, которого я не найду ни в чинах, ни в крестах**, а этих детских игрушек я добиваться не намерен. * (То есть отдельной.) ** (То есть в орденах.) Хлопот бездна! в понедельник (9 числа), может быть, подаю просьбу на корректорское место, а нынешний день переезжаю на новую квартиру, к Надеждину на готовый стол и чай и пр. Это. не дурно, ибо мои... урочишки кончились по той причине, что мои ученики должны поступать скоро в университет. Я рад, что отделался от них: хлопот много, выгоды мало. Надеюсь скоро иметь лучшие. Корректором надеюсь пробыть недолго, может быть, только до нового года; к этому времени в Москве откроется третья гимназия; Надеждин обещал мне в ней место младшего учителя русского языка. О, если бы это сбылось: царства небесного не надо. Я перебрался к Надеждину и живу у него уже две недели. Жить мне очень недурно; у меня особенная комната, а так как он сам никогда дома не обедает, то для меня одного готовили постом скоромный стол; поутру всегда чай с белым хлебом, что тем более для меня приятно, что я уже месяца с два совсем бросил ужин, найдя его для себя крайне вредным. Итак, я совершенно обеспечен со стороны содержания. 9 числа нынешнего месяца (в четверток*) подал я просьбу о поступлении в службу на корректорское место. Ректор ее принял, и по всему видно, что дело недели через три-четыре кончится в мою пользу... Вот, видишь ли, и на моей улице настает праздник; терпел, терпел, да и вытерпел. Теперь Надеждин уехал (14 числа) ревизовать Тульскую и Рязанскую губернии и поручил мне журнал и дом, где я теперь полный хозяин... * (В четверг.) Месяца через два или через три надеюсь совершенно поправить мои денежные обстоятельства, разумеется, не жалованьем, которого на это очень недостаточно, а кое-чем другим, о чем узнаешь в свое время*. * (Возможно, Белинский имел в виду предстоящую публикацию своей первой статьи "Литературные мечтания".) ...в Москве па каждое место десять конкурентов... места у нас надо ловить на лету. Вот у меня уже один раз перебили место; кажется, в другой-то буду посчастливее. Со дня на день ожидаю решения.  Н. П. Огарев. Работа крепостного художника ...с ног до головы завален делами, разумеется, больше своими*, чем Надеждина, которых не слишком много. Да, брат, надо подумать о будущем: ведь в моих руках будет участь людей, милых мне. * (Вероятно, также имеется в виду работа над "Литературными мечтаниями".) Хоть бы одним глазком поглядел па Вас. Может быть, нынешним летом заверну и я в Ваш уголок, если позволят дела. Хочется вздохнуть воздухом родины, взглянуть на места, где провел детство, где Много милого любил, Где обнял грозное страданье*, * (Цитата из "Кавказского пленника" Пушкина.) хочется побеседовать с вами, милыми сердцу, хочется выронить слезу на могиле родной...* * (Мать Белинского умерла 29 августа 1834 года в Чембаре; потерю эту Белинский переживал очень тяжело.) ...Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей - а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера. В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всеми гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, но остаются, и если умирают па полдороге, то пе все умирает с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще. Мало-помалу из них составляются группы... Само появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответам на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни. Об застое после перелома в 1825 году* мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни... Остальные - испуганные, слабые, потерянные - были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место; они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались, по пе становились сановитыми. Время их прошло. * (После подавления восстания 14 декабря 1825 года я расправы над декабристами) Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа; для него ничего не переменилось, - ему было скверно, но не сквернее прежнего, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время не пришло. Между этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову, может оттого, что они не подозревали, как это опасно; но, как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя... Так сложился, например, наш кружок и встретил в университете, уже готовым, кружок сунгуровский. Направление его было, как и наше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические.  А. И. Герцен. Портрет приписывается А. А. Збруеву В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших. В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова - и исчез. В 1835 году сослали нас... Тайное студенческое общество, которое возглавлял Н. П. Сунгуров, уже окончивший курс университета, возникло весной 1831 года, вскоре после нашумевшей "маловской истории". В обществе, объединившем большую группу студентов, велась агитация за свержение Николая I и установление конституционного правления. При перевороте сунгуровцы предполагали опереться на фабричных людей, рассчитывая на их ненависть к своим "утеснителям". Сунгуровцев арестовали и предали военному суду. Несколько человек были сданы в солдаты, а Н. П. Сунгуров сослан в Нерчинские рудники и там умер. Второй кружок - Герцена и Огарева - также жил широкими общественно-политическими интересами, свято храня память о декабристах. В основу его воззрений легли идеи утопического социализма Сен-Симона. Герцен писал: "Нам открылся целый мир новых отношений между людьми - мир здоровья, мир духа, мир красоты". Впервые члены кружка Герцена и Огарева попали под надзор полиции за помощь, оказанную ими осужденным сунгуровцам. В 1834 году большая часть членов кружка была арестована и сослана. Герцен, а затем Огарев вернулись из ссылки в 1839 году. Впоследствии они эмигрировали за границу, где основали Вольную русскую типографию и издавали первые бесцензурные русские периодические издания - альманах "Полярная звезда" и газету "Колокол". В кружке Станкевича основным было изучение немецкой идеалистической философии, занимавшей в то время главенствующее положение в Европе. В кружке изучали философию Гегеля (1770-1831) и его предшественников - Канта (1724-1804), Фихте (1762-1814) и Шеллинга (1770-1854). В идеалистической философии полуфеодальной Германии мечты о свободе и революции сочетались с привязанностью к религии и враждебностью к материализму. В то же время в ее методе выработалось глубокое учение о развитии - гегелевская диалектика, которая впоследствии послужила "рациональным зерном" для марксистской материалистической диалектики. В России Николая I, где человеческая личность была безгранично угнетена, юные философы хотя бы в мыслях стремились подняться над царством необходимости - над окружающим их жандармским произволом. В кружке Станкевича, как писал Гончаров в "Заметках о личности Белинского", "гранились друг о друга юные умы, жадно передавая друг другу знания, наблюдения, взгляды". Членов кружка - разных по натуре и впоследствии далеко разошедшихся в общественно-политических взглядах - объединяло неприятие николаевской действительности, осуждение эгоистического существования и готовность служить высоким целям, по выражению Станкевича, "бескорыстная мечта на подвиг". Глава кружка, который вошел в историю под его именем, - Николай Владимирович Станкевич (1813-1840) не успел создать что-либо законченное в области философии и критики. Его влияние в кружке биографы обычно обосновывали одним личным обаянием, привлекательностью характера Станкевича, простотой, общительностью. Однако и незавершенные его работы представляют собой очень важный момент в развитии нашей философской и эстетической мысли, они во многом послужили на первых шагах формированию критики Белинского. Впрочем, воззрения в кружке часто вырабатывались одновременно, в непосредственном общении. В 1837 году больной Станкевич уехал за границу. В течение двух лет он занимался в Берлине философией и всеобщей историей. Умер Станкевич в Италии в городке Нови 27 лет от роду. Белинский вступил в кружок осенью 1833 года, уже будучи исключенным из университета. Он прошел здесь все тонкости школы философского идеализма, хотя, по опыту его жизни разночинца, ему претила отвлеченность этого учения. Но в идеалистической философии Белинский, также по образному выражению Гончарова, "не держал на ученой конюшне оседланного готового коня с нарядной сбруей, не выезжал в цирк показывать езду haute ecole (высокой школы; франц.), а ловил из табуна первую горячую лошадь и мчался, куда нужно, перескакивая ученых коней". Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашел в кондитерскую Вульфа, в которой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, на котором они были разложены, и мне прежде всего попался на глаза последний нумер "Молвы" В этом нумере было продолжение статьи под заглавием: "Литературные мечтания. (Элегия в прозе)"**. Это оригинальное название заинтересовало меня: я взял несколько предшествовавших нумеров и принялся читать. * (Газета, выходившая приложением к журналу Надеждина "Телескоп".) ** (Статья Белинского была напечатана в десяти номерах "Молвы" в течение сентября - декабря месяцев 1834 года.) Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охотно бы тотчас поскакал в Москву, если бы это было можно, познакомиться с автором ее и прочесть поскорее ее продолжение. Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня. "Не оно ли, - подумал я, - это новое слово, которого я жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?"...  Москва. Большой театр. Акварель. 1830-е годы Как ничтожны и жалки казались мне после этой горячен и смелой статьи пошлые, рутинные критические статейки о литературе, появлявшиеся в московских и петербургских журналах. В статье Белинского, я это очень хорошо помню, я остановился с особенным удовольствием на следующих строках: "У нас еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам; мы и в литературе высоко чтим табель о рангах* и боимся говорить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: сказать о нем резкую правду у нас святотатство". * (Так называлось Положение о чинах и порядке прохождения государственной службы, установленное еще при Петре I.) "Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить (какие пророческие слова!) распространению на Руси основательных понятий о литературе и усовершенствовании вкуса?.. Литературное идолопоклонство! Дети, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать! Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчествующих обществ". Эти строки были мне особенно по сердцу, потому что после моего детского увлечения Кукольником, после смешного и рабского преклонения пред ним я чувствовал озлобление против всех авторитетов, даже против моего кумира Марлинского. Я с каким-то наслаждением любовался, как Белинский беспощадно разбивал его. И как понятна ненависть, которую питали к Белинскому тогдашние литературные знаменитости и посредственности, лицемерившие перед старыми авторитетами из боязни за самих себя, за собственную литературную участь... После "Литературных мечтаний" и статьи о Бенедиктове, которая наделала большого шума, я уже не пропускал ни одной статейки Белинского. О личности Белинского начали носиться между петербургскими литераторами какие-то сбивчивые, противоречивые и неблагоприятные слухи. Его смелость и резкость действовали неприятно на литераторов. Они видели, что на них идет нешуточная гроза. Мне ужасно хотелось узнать, что за человек Белинский, и я очень обрадовался, узнав о приезде в Петербург А. В. Кольцова. Я знал, что Кольцов близок с Белинским... Я хотел отправиться отыскивать Кольцова, но в одно утро, очень скоро после своего приезда, он явился ко мне сам... Разговор мой с Кольцовым начался прямо с Белинского. Он привез мне поклон от него. Кольцов, человек проницательный и осторожный, умевший, как я узнал впоследствии, сдерживать себя и таивший перед петербургскими литераторами свои убеждения, заметив мой энтузиазм к Белинскому, заговорил со мною довольно откровенно.  П. С. Мочалов. Литография - Да-с, Иван Иваныч, Белинский - единственный человек у нас в настоящее время, владеющий эстетическим вкусом и понимающий искусство. Его немногие ценят, особенно из ваших петербургских литераторов, - это очень жаль-с... И какой светлый ум у этого человека! Какое горячее, благородное сердце! Я обязан всем ему; он меня поставил на настоящую мою дорогу; без его советов я не решаюсь теперь печатать моих мараний: он мне говорит всегда, что нужно выкинуть, что исправить, что вовсе бросить. Уж он так добр ко мне, такое участие принимает во мне! В 1834 году появилась в нескольких нумерах "Молвы" блистательная статья его под названием: "Литературные мечтания. (Элегия в прозе)". Мало кому из молодых писателей случалось начинать свое поприще так смело, сильно и самостоятельно. Белинский выступил в ней во всеоружии даровитого новатора. Изумление читателей было общее. Кто был от нее в восторге, кто вознегодовал, что дерзкою рукою юноши, недоучившегося студента (как узнали вскоре), семинариста (как называли его иные) - одним словом, человека без роду-племени - кумиры их сбиты с пьедестала, на котором они, казалось, стояли так твердо. Поклонники этих кумиров, провожая их по течению Леты*, как пи кричали им: "батюшки, выдыбай!", сколько ни делали усилий пригнать их к вожделенному берегу, немногие из них спаслись от потопления. С этой поры Белинский угадал свое призвание и не ошибся в нем. Критик, какого мы до него не имели, он до сих пор ждет себе преемника. Что бы пи говорили об его ошибках (не мое дело здесь защищать его: я не пишу критического разбора), за ним всегда останется слава, что он сокрушил риторику, все натянутое и изысканное, всякую ложь, всякую мишуру и на место их стал проповедовать правду в искусстве (разумея тут и правду художественную). Рядом с его теорией шли Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Даль, артисты Мочалов и Щепкип; за нею следовала целая плеяда высокодаровитых писателей, и во главе их Тургенев, высокий поэт и в самых мелких из своих произведений... * (В мифологии древних греков река забвения.) Жалею, что, говоря о "Телескопе", не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности - словом, более зрелости, то мы имели бы в нем критика весьма замечательного. В 3-ем томе журнала "Современник" Пушкин поместил свою статью, подписав ее инициалами А. Б. и назвав "Письмом издателю", якобы полученным из г. Твери. Таким образом поэт нашел наиболее тактичную форму высказать свое несогласие с отдельными положениями статьи Гоголя "О движении журнальной литературы", напечатанной в 1-м томе "Современника", и этим заявить, что статью Гоголя нельзя рассматривать как программу журнала. В примечании к "Письму" Пушкин уже открыто от своего имени заметил, что не все мнения в статье Гоголя, "высказанные с такою юношескою живостью и прямодушием" совершенно сходны с его собственным. Он нашел необходимым отметить досадное отсутствие в статье Гоголя упоминания о Белинском. Так, в свое время, первым выступив в печати с добрым напутствием Гоголю, Пушкин уже по первым статьям Белинского предсказал ему замечательное будущее великого критика. В оправдание Гоголя надо сказать, что отзыв о Белинском содержался в его рукописи, но в печатном тексте статьи почему-то отсутствовал. Гоголь писал, что "в критиках Белинского ...виден вкус, хоть еще молодой и опрометчивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении". ...Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь есть действование, а действование есть борьба; не забывай, что твое бесконечное высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего я в чувстве любви. Итак, вот тебе две дороги, два неизбежных пути: отрекись от себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжким крестом выстрадай твое соединение с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства!.. Что? Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется тебе не по силам?.. Ну, так вот тебе другой путь, он шире, спокойнее, легче: люби самого себя больше всего на свете; плачь, делай добро лишь для выгоды, не бойся зла, когда оно приносит тебе пользу. Помни это правило: с ним тебе везде будет тепло. Если ты рожден сильным земли, гни твой хребет, ползи змеею между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами, рамена* согни под грузом незаслуженных почестей и титл. Весела и блестяща будет жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холод или голод, что такое угнетение и оскорбление, все будет трепетать тебя, везде покорность и услужливость, отовсюду лесть и хваления, и поэт напишет тебе послание и оду, где сравнит тебя с полубогами, и журналист прокричит во всеуслышание, что ты покровитель слабых и сирых, столп и опора отечества, правая рука государя! Какая тебе нужда, что в душе твоей каждую минуту будет разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь в беспрестанном раздоре с самим собою, что в душе твоей будет слишком жарко, а в сердце слишком холодно, что вопли угнетенных тобою будут преследовать тебя и на светлом пиру и на мягком ложе сна, что тени погубленных тобою окружат твой болезненный одр, составят около него адскую пляску и с яростным хохотом будут веселиться твоими последними, предсмертными страданиями, что перед твоими взорами откроется ужасная картина нравственного уничтожения: за гробом, мук вечных!.. Э, любезный мой, ты прав: жизнь - сон, и не увидишь, как пройдет!.. Зато весело поживешь, сладко поешь, мягко поспишь, повластвуешь над своими ближними, а ведь это чего- нибудь да стоит! Если же, при твоем рождении, природа возложила на твое чело печать гения, дала тебе вещие уста пророка и сладкий голос поэта, если миродержавные судьбы обрекли тебя быть двигателем человечества, апостолом истины и знания, вот опять перед тобою два неизбежные пути. Сочувствуй природе, люби и изучай ее, твори бескорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближних для впечатлений благого и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонения злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчивого взора с прекрасного, родного тебе неба. Трудно? тяжко?.. Ну, так торгуй твоим божественным даром, положи цену на каждое вещее слово, которое ниспосылает тебе бог в святые минуты вдохновения: покупщики найдутся, будут платить тебе щедро, а ты лишь умей кадить кадилом лести, умей склонять во прах твое венчанное чело, забудь о славе, о бессмертии, о потомстве, довольствуйся тем, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласит о тебе, что ты великий поэт, гений, Байрон, Гёте!.. * (Плечи (церк.-слав.).) Я познакомился с Белинским впервые зимою 1834 года, когда готовился вступить в Московский университет...  В. А. Каратыгин. Литография Белинский явился к нам в качестве учителя русского языка и словесности, истории и географии... Белинский ко мне благоволил, и мне он нравился, хотя я не подозревал в нем ничего особенного, да, к счастью, и родители видели в нем не более как учителя низкого происхождения, который и не мог не быть более или менее чудаком, с дурными манерами. Более мы сблизились с ним летом 1835 года. Родители мои уехали в деревню и оставили меня в Москве готовиться к экзамену, который должен был начаться в конце августа. Уезжая, отец просил всех учителей, в особенности Белинского, принять к сердцу мои успехи... Я Белинскому, видимо, полюбился. Месяца полтора он ходил очень аккуратно, но потом стал опять пропадать неделями. Учил он меня плохо. Задавал по книжке, выслушивал рассеянно, без дополнений и пояснений, и, наконец, предоставил меня собственной судьбе, говоря, что я юноша умный и с учебником справлюсь сам. Но насколько он был плохой педагог, мало знающий предмет, которому учил, настолько он благотворно действовал на меня возбуждением умственной деятельности, умственных интересов, уважения и любви к знанию и нравственным принципам. Мы занимались с ним больше разговорами, в которых не было ничего педагогического в школьном смысле, и я только по счастливой случайности не провалился на экзамене; но эти разговоры оставили во мне гораздо больше, чем детальное и аккуратное знание учебника и руководства. Чтобы понять и оценить это, надо вспомнить время и среду, в которых я жил. Страшное безмыслие, отсутствие всяких социальных, научных и умственных стремлений, тоскливый и рабский биготизм*, самодержавный и крепостной status quo (существующее положение; лат.) как естественная норма жизни, дворянское чванство и пустейшая ежедневная жизнь, наполненная мало искренними родственными отношениями, сплетнями и пошлостями дворянского кружка, погруженного в микроскопические ежедневные дрязги, придворные слухи, допотопное хозяйство, светские этикеты и туалеты. Для юноши эта среда была заразой, и те, которые в ней не опошлели и из нее выбрались, были обязаны, подобно мне, тем струйкам света, которые контрабандой врывались чрез Белинского и ему подобных в эту тину и болото... * (Биготизм - святошество.) Приехав однажды в первых тридцатых годах из Твери в Москву, я хотел посетить Белинского и узнать его домашнее житье-бытье. Он квартировал в бельэтаже (слово это было подчеркнуто в его адресе), в каком-то переулке между Трубой* и Петровкой. Красив же был его бельэтаж! Внизу жили и работали кузнецы. Пробраться к нему надо было по грязной лестнице, рядом с его каморкой была прачечная, из которой беспрестанно неслись к нему испарения мокрого белья и вонючего мыла. Каково было дышать этим воздухом, особенно ему, с слабой грудью! Каково было слышать за дверьми упоительную беседу прачек и под собой - стукотню от молотов русских циклопов**, если не подземных, то подпольных! Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты, не запертой (хотя я не застал хозяина дома), потому что в ней нечего было украсть. Прислуги никакой; он ел, вероятно, то, что ели его соседки. Сердце мое облилось кровью... я спешил бежать от смраду испарений, обхвативших в несколько минут мое платье; скорей, скорей на чистый воздух, чтобы хоть несколько облегчить грудь от всего, что я видел, что я прочувствовал в этом убогом жилище литератора, заявившего России уже свое имя! * (Трубной площадью.) ** (В греческих мифах великаны-кузнецы с одним глазом на лбу.) Между разными средствами, которые мы отыскивали с Белинским, чтобы вывести его из этого ужасного положения, придуман был один и одобрен нами: идти ему в домашние секретари к одному богатому аристократу, страшному охотнику писать и печататься. Он известен в литературе под именем, помнится, Прутикова*. Обязанности секретаря состояли, так же как и соседок-прачек, в том, чтобы чистить, штопать и выглаживать черное литературное белье его превосходительства. Зато стол, квартира, прислуга в богатом доме и небольшое жалование - чего же лучше! Дело было легко уладить. Прутиков не раз обращался ко мне с просьбой, по дружбе, взглянуть на его творения и, если мне не в тягость, поправить кое- где грамматические и другие погрешности. Но когда догадался, что это занятие не по мне, стал уже просить меня приискать ему в помощники надежного студента. Под этот случай попался Белинский. * (Это был псевдоним А. М. Полторацкого, автора бездарных "Записок Дормедона Васильевича Прутикова".) Вскоре он водворен в аристократическом доме, пользуется не только чистым, даже ароматическим воздухом, имеет прислугу, которая летает по его мановению, имеет хороший стол, отличные вина, слушает музыку разных европейских знаменитостей (одна дочь его превосходительства - музыкантша), располагает огромной библиотекой, будто собственной, - одним словом, катается, как сыр в масле. Но вскоре заходят тучи над этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчас жертвовать своими убеждениями, собственною рукой писать им приговоры, действовать против совести. И вот в одно прекрасное утро Белинский исчезает из дома, начиненного всеми житейскими благами, исчезает с своим добром, завязанным в носовой платок, и с сокровищем, которое он носит в груди своей. Его превосходительству оставлена записка с извинением нижеподписавшегося покорного слуги, что он не сроден к должности домашнего секретаря. Шаги его направлены к такой же убогой квартирке, в какой он жил прежде. Голова его высоко поднята, глаза его смело смотрят в небо; ни разу они, так же как и сердце, не обратились назад, к великолепным палатам, им оставленным. Он чувствует, что исполнил долг свой. Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 г.*, маленькой книжечкой с неизбежной виньеткой на заглавном листе - как теперь ее вижу, - и привели в восхищение все общество, всех литераторов, критиков - всю молодежь. И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался "Утесом", "Горами" и даже "Матильдой" на жеребце, гордившейся "усестом красивым и плотным". Вот, в одно утро, зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился № "Телескопа" с статьей Белинского, в которой этот "критикан" осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски - и, разумеется, также воспылал негодованием. Но - странное дело! и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с "критиканом", находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был прав... Прошло несколько времени - и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, - мнения, казавшиеся дерзкой новизною, - стали всеми принятым, общим местом - a truism, как выражаются англичане? Под этот приговор подписалось потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей. Имя Белинского с тех пор уже не изгладилось из моей памяти, но наше знакомство началось позже. * (Неточность: стихотворения Бенедиктова вышли в 1835 году.) ...Белинский страстно принялся изучать Гегеля. Незнакомство с немецким языком не только не явилось препятствием, но даже облегчило его занятия: Бакунин* и Станкевич взялись поделиться с ним своими знаниями в этой области и сделали это со всем увлечением молодости и всей ясностью русского ума. Белинскому довольно было, впрочем, общих указаний, чтобы догнать своих друзей. Овладев системой Гегеля, он, первый из его московских адептов**, восстал если не против самого Гегеля, то, по крайней мере, против обычного его толкования. * (Михаил Александрович Бакунин (1817-1876) вступил в кружок Стднкевича позднее других, в 1835 году, и начал заниматься философией, проявляя большую одаренность. Он внес в эти занятия, по словам Белинского, "кипение жизни, беспокойный дух, живое стремление к истине". Белинский и Бакунин сдружились. Однако дружба эта (1836-1839 гг.) проходила в непрерывной борьбе и закончилась полным идейным разрывом перед отъездом Бакунина за границу в 1840 году. Белинский говорил, что побыть вместе с Бакуниным значило для него "сделать большой шаг в мыслях". И он же вынужден был признаваться, что испытывал явное презрение и холодность со стороны своего деспотического друга, как только хотел жить самостоятельно, развиваться самобытно. Белинскому претило в Бакунине, что тот отвлеченную Схему ставил выше человека. В 1842 году Бакунин вступил за границей на путь революционной борьбы; Белинский писал по этому поводу: "Мы, я и Мишель, искали бога по разным путям и сошлись в одном храме". Забыв старое, он послал Бакунину дружеское письмо. Позднее, после встречи с Бакуниным в Париже, он решительно осуждал мистическое верование Бакунина (и славянофилов) в то, что народ якобы сможет стихийно, без организации освободиться: "сам народ должен все для себя сделать". Впоследствии став теоретиком анархизма, Бакунин был противником организованной борьбы рабочего класса, пытался развалить работу 1-го Интернационала и был из него исключен в 1872 г.) ** (Адепт - ревностный последователь какого-либо учения.) Белинский был совершенно свободен от влияний, которым мы поддаемся, когда не умеем защититься от них. Соблазненные новизною, мы в юности принимаем множество вещей памятью, не проверяя их разумом. Эти воспоминания, которые мы считаем за приобретенные истины, связывают нашу независимость. Белинский начал свои занятия с философии, и то лишь когда ему исполнилось двадцать пять лет. Он приступил к пауке с серьезными вопросами и со страстной диалектикой. Для него истины, выводы не были ни отвлеченностями, ни игрой ума, но вопросами жизни и смерти; свободный от всякого постороннего влияния, он вступил в науку с большой искренностью; он не старался что-либо спасти от огня анализа и отрицания и совершенно естественно восстал против половинчатых решений, робких заключений и малодушных уступок... 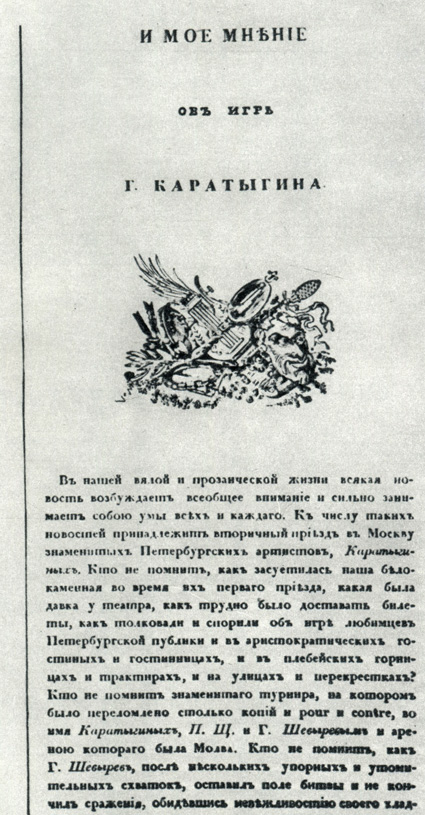 Первая статья В. Г. Белинского о театре в 'Молве'. 1835 г. Однажды, опровергая в течение целых часов богобоязненный пантеизм* берлинцев, Белинский встал с места и своим трепещущим, прерывающимся голосом заявил: "Вы хотите меня уверить, что цель человека - привести абсолютный дух к его самосознанью, и довольствуетесь этой ролью; ну, а я недостаточно глуп, чтобы служить невольным орудием для кого бы то ни было. Если я думаю, если я страдаю, то сам, для самого себя. Ваш абсолютный дух, если он существует, мне чужд. Мне нечего его знать, так как у меня нет ничего с ним общего". * (Пантеизм - философское учение, отождествляющее бога с природой, рассматривающее природу как воплощение бога, абсолютного духа.) Мы приводим эти слова только затем, чтобы еще раз показать склад русского ума. Как только начали доказывать нелепость дуализма, первый же талантливый русский человек, который занялся немецкой философией, указал, что она была реалистична только на словах, а в основе оставалась земной религией, религией без неба, логическим монастырем, в который укрываются, чтобы погружаться в отвлеченности. |
|
|
