

 |
|
|

Произведения Ссылки |
За границей (июнь 1836 - июль 1848)* (Гоголь приезжал в Россию и недолго жил здесь в 1839-1840 и 1841-1842 гг. Рассказ об этих приездах включен в данную главу.) Мне очень было прискорбно, что не удалось с вами проститься перед моим отъездом, тем более что отсутствие мое, вероятно, продолжится на несколько лет. Но теперь для меня есть что-то в этом утешительное. Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком бы отдаленном уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам. Вечно вы будете представляться мне слушающим меня читающего... Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст. В самом деле, если рассмотреть строго и справедливо, что такое все, написанное мною до сих пор? Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видно нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность, робкая, дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которую бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом. О, какой непостижимо-изумительный смысл имели все случаи и обстоятельства моей жизни! Как спасительны для меня были все неприятности и огорчения! Они имели в себе что-то эластическое; касаясь их, мне казалось, я отпрыгивал выше, по крайней мере чувствовал в душе своей крепче отпор. Могу сказать, что я никогда не жертвовал свету своим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии была на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности. Для меня нет жизни вне моей жизни, и нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха в моей жизни. Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что в свете не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее. Здравствуй, мой добрый друг! как живешь? что делаешь? скучаешь ли, веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да ленишься? Бог в помощь тебе, если занят делом. Пусть весело горит пред тобою свеча твоя!.. Мне жаль, слишком жаль, что не видался с тобою перед отъездом. Много я отнял у себя приятных минут... Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь пере до мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь, - не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь: ты, да несколько других близких, да небольшое число заключивших в себе прекрасную душу и верный вкус. Я не пишу тебе ничего о моем путешествии. Впечатления мои уже прошли. Уже я привык к окружающему, и потому описание его, сомневаюсь, чтобы было любопытно. Два предмета только поразили и остановили меня: Альпы да старые готические церкви.  Н. В. Гоголь на репетиции 'Ревизора'. Рисунок П. Каратыгина. 1836 г. Осень наступила, и я должен положить свою дорожную палку в угол и заняться делом. Думаю остаться или в Женеве, или в Лозанне, или в Веве, где будет теплее (здесь нет наших теплых домов). Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтер Скотта, а там, может быть, за перо... ...Прошатавшись лето на водах, я перебрался на осень в Швейцарию. Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом; для этого поселился в загородном доме близ Женевы. Там принялся перечитывать я Мольера, Шекспира и Вальтер Скотта. Читал я до тех пор, покамест сделалось так холодно, что пропала вся охота к чтению. Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве... Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за "Мертвых душ", которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше; серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь - вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но, наконец, и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые домы; мне живее тогда представились вы, вы в том самом виде, в каком встречали меня приходившие к вам и брали меня за руку, и были рады моему приходу... И мне сделалось страшно скучно. Меня не веселили мои "Мертвые души", я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжать их. Доктор... советовал мне развлекать себя; увидевши же, что я не в состоянии был этого сделать, советовал переменить место. Мое намерение до того было провести зиму в Италии, но в Италии бушевала холера страшным образом; карантины покрыли ее, как саранча. Я встречал только бежавших оттуда итальянцев, которые от страху в масках проезжали свою землю. Не надеясь развлечься в Италии, я отправился в Париж, куда вовсе не располагал было ехать... Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня, мест для гулянья множество; одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно делаю препорядочный моцион, что для меня теперь необходимо... Снова весел. "Мертвые" текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною всё наше, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу "Мертвых душ" в Париже... Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками... Я думаю, что я пробуду в Париже всю зиму... А с началом февраля отправлюсь в Италию, если только холера прекратится, и "Души" потекут тоже за мной. * (В письмах из-за границы числа месяцев, где не указано двойное исчисление, даны по новому стилю.) Я получил письмо твое в Риме. Оно наполнено тем же, чем паполнены теперь все наши мысли*. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русский, как писатель, я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики, мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему. Й это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине? Или ты надочно сделал такое заключение после сильного тобой приведенного примера, чтоб сделать еще разительнее самый пример. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярных до действительных тайных? Ты пишешь, что все люди, даже холодные, были тронуты этой потерей. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину... О, когда я вспомню наших судей, меценатов, ученых, умников, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли... Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что бы я не хотел решиться. Или ты думаешь мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли? * (Гоголь имеет в виду трагическую гибель Пушкина. Весть об этом дошла до Гоголя в конце февраля в Париж. Первый его отклик был в письме к Плетневу 16 марта.) Я живу около года на чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою связью прикован я к своему. И наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов всё перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей - никогда! Мои страдания тебе не могут вполне быть понятны. Ты в пристани, ты, как мудрец, можешь перенесть и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы, - сложить мне голову свою не на родине!.. ...Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платье мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных; блюда все особенные, всё на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений; здесь всё остановилось на одном месте и далее нейдет. Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог себе дать ясного отчета: он показался мне маленьким; но, чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше; а картин, развалин и антиков* смотреть на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу - и уж на всю жизнь... Ты не можешь себе дать никакой идеи, что такое Рафаэль. Ты будешь стоять перед ним так же безмолвный и обращенный весь в глаза, как ты сиживал некогда перед Гризй...** * (Художественные произведения и вообще предметы культуры античного мира.) ** (Итальянская певица, которую Гоголь и Данилевский слушали в Париже.) ...Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтобы она была долговечна; а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду... Если бы мне такой пансион, который дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при пашей церкви... Я ничего не пишу к вам теперь ни о Риме, ни об Италии. Меня одолевают теперь такие печальные мысли, что я опасаюсь быть несправедливым теперь ко всему, что должно утешать и восхищать душу. - Может быть, это отчасти действие той ужасной утраты, которую мы понесли и в которой я до сих пор не имел сил увериться, которая, кажется, как будто оборвала в моей жизни лучшие ее украшения и сделала ее обнаженнее и печальнее. ...О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение! Что бы за жизнь моя была бы после этого в Петербурге... ...я тот же час отправился делать визиты всем своим друзьям*. Был и у Колизея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства: стало быть, он со мной говорил. Потом я отправился к Петру** и ко всем другим, и мне казалось, они сделались на этот раз гораздо более со мной разговорчивы. В первый раз нашего знакомства они, казалось, были молчаливы, дичились и считали меня за форестьера***. * (Гоголь передает свои впечатления о встрече с Римом после какой-то отлучки из него. Летом и осенью 1837 г. Гоголь выезжал из Рима в Баден и в Женеву.) ** (Имеется в виду собор св. Петра.) *** (Иностранца, туриста.) Кстати, о форестьерах. Всю зиму, прекрасную, удивительную зиму, лучше во сто раз петербургского лета - всю эту зиму я, к величайшему счастью, не видал форестьеров; но теперь их наехала вдруг куча к Пасхе... Что за несносный народ! приехал и сердится, что в Риме нечистые улицы, нет никаких совершенно развлечений, много монахов, и повторяет вытверженные еще в прошлом столетии из календарей и старых альманахов фразы, что итальянцы подлецы, обманщики и проч... Впрочем, они наказаны за глупость своей души уже тем, что не в силах наслаждаться, влюбляться чувствами и мыслью в прекрасное и высокое - не в силах узнать Италию. Есть еще класс людей, которые за фразами не лезут в карман и говорят: "Как это величаво, как это хорошо!", словом, превращаются очень легко в восклицательный знак и выдают себя за людей с душою. Их не терпит тоже моя душа, и я скорее готов простить, кто надевает на себя маску набожности, лицемерия, услужливости для достижения какой-нибудь своей цели, нежели кто надевает на себя маску вдохновения и поддельных поэтических чувств.  Городничий. Рисунок, подаренный Гоголю Пушкиным в 1835 г. Знаете, что я вам скажу теперь о римском народе? я теперь занят желанием узнать в глубине весь его характер, слежу его во всем, читаю все народные произведения, где только он отразился, и скажу, что, может быть, это первый народ в мире, который одарен до такой степени поэтическим чувством, невольным чувством понимать то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейский ум не набросил своей узды... ...Но вы знаете, почему он <Рим> прекрасен. Где вы встретите эту божественную, эту райскую пустыню среди города? Какая весна! Боже, какая весна! Но вы знаете, что такое молодая, свежая весна среди дряхлых развалин, зацветающих плющом и дикими цветами... удивительная весна! Гляжу, - не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите ли, что часто приходит неистовое "желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше - ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны... * (Мария Петровна Балабина (1820-1901). Гоголь давал ой частные уроки, когда был преподавателем Патриотического института в 1831 году. С ней и с ее матерью он вновь встретился летом 1836 года в Баден-Бадене и с тех пор стал переписываться со своей бывшей ученицей, делясь с ней заграничными впечатлениями. Письмо относится к 1838 году. Если считать, как принято, годом основания Рима 753-й год до н. э., Гоголь ошибся при пересчете лет на три года.) Досадую на тебя очень, что не догадался списать для меня ни "Египетских ночей", ни "Галуба"*. Ни того, ни другого здесь нет. "Современник" в Риме не получается и даже ничего современного. Если "Современник" находится у Тургенева**, то попроси у него моим именем. Если можно, привези весь; а не то - перепиши стихи. Еще, пожалуйста, купи для меня новую вещь Мицкевича - удивительнейшая вещь: "Пан Тадеуш". Она продается в польской лавке... Еще: не отыщешь ли ты где-нибудь первого тома Шекспира, - того издания, которое в двух столбцах и в двух томах... * (Под таким названием долгое время печаталась незаконченная поэма Пушкина "Тазит", которая в рукописи никак не озаглавлена.) ** (Имеется в виду А. И. Тургенев.) ...Что касается до меня, я... странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным н неразмеренным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и вообще не могу ничего делать, где я один и где я чувствую скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге, именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро. В Вене я скучаю... Труд мой, который начал, нейдет*; а чувствую, вещь может быть славная. Или для драматического творения нужно работать в виду театра, в омуте со всех сторон уставившихся на тебя лиц и глаз зрителей, как я работал во времена оны? Подожду, посмотрим. Я надеюсь много на дорогу**. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит па ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге. * (В то время Гоголь задумал и начал писать драму из истории Запорожья, впоследствии им уничтоженную.) ** (Гоголь находился в это время в Вене после лечения водами в Мариенбаде. Собирался выехать в Россию для устройства сестер - Анны и Елизаветы, окончивших институт в Петербурге. В этот приезд оп пробыл в России, в Москве и Петербурге, с конца сентября 1839 до июня 1840 гг.) (ГОГОЛЬ - С. П. ШЕВЫРЕВУ*, 10 сентября 183) * (Степан Петрович Шевырев (1806-1864) - критик и историк литературы, профессор русской словесности в Московском университете; ближайший помощник Погодина по изданию журнала "Москвитянин"; вел ожесточенную полемику с Белинским. С Гоголем был связан личной дружбой, выполнял его разные поручения, с 1843 г. вел дела но изданию его сочинений; противился обличительному направлению в творчестве Гоголя.) ...На другой день моего переезда в Москву, 2-го октября <1839>, Гоголь приехал к нам обедать вместе с Щенкиным, когда мы уже сидели за столом, совсем его не ожидая. С искренними, радостными восклицаниями встретили его все, и он сам казался воротившимся к близким и давнишним друзьям, а не просто к знакомым, которые виделись несколько раз и то на короткое время... ...Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражались доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее. Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил, не улыбаясь.  Разъезд из Александринского театра. Литография Р. Жуковского. 1840-е годы С этого собственно времени началась наша тесная дружба, вдруг развившаяся между нами. Гоголь бывал у нас почти каждый день и очень часто обедал. Зная, как он не любит, чтоб говорили с ним об его сочинениях, мы никогда об них не поминали, хотя слух о "Мертвых душах" обежал уже всю Россию и возбудил общее внимание и любопытство. Не помню, кто-то писал из чужих краев, что, выслушав перед отъездом из Рима первую главу "Мертвых душ", он хохотал до самого Парижа. Другие были не так деликатны, как мы, и приступили к Гоголю с вопросами, но получали самые неудовлетворительные ответы. Гоголь сказал нам, что ему надобно скоро ехать в Петербург, чтоб взять сестер своих из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Мать Гоголя должна была весною приехать за дочерьми в Москву. Я сам вместе с Верой* собирался ехать в Петербург, чтоб отвезть моего Мишу** в Пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Я сейчас предложил Гоголю ехать вместе, и он очень был тому рад... * (Дочь Аксакова.) ** (Младший сын.) ...Я взял особый дилижанс, разделенный на два купе: в переднем сидел Миша и Гоголь, а в заднем - я с Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в которых деревянные рамки можно было поднимать и опускать: с нашей стороны в рамках были вставлены два зеркала. Это путешествие было для меня и для детей моих так приятно, так весело, что я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Гоголь был так любезен, так постоянно шутлив, что мы помирали со смеху. Все эти шутки обыкновенно происходили на станциях или при разговорах с кондуктором и ямщиками. Самый обыкновенный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так сказать забавно, что мы сейчас начинали хохотать; иногда даже было нам совестно перед Гоголем, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. В продолжение дороги, которая тянулась более четырех суток, Гоголь говорил иногда с увлечением о жизни в Италии, о живописи (которую очень любил и к которой имел решительный талант), об искусстве вообще, о комедии в особенности, о своем "Ревизоре", очень сожалея о том, что главная роль, Хлестакова, играется дурно в Петербурге и Москве, отчего пьеса теряла весь смысл (хотя в Москве он не видал "Ревизора" на сцене). Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть "Ревизора" на домашней сцене; сам хотел взять роль Хлестакова, мне предлагал Городничего, Томашевскому (с которым я успел его познакомить), служившему цензором в Почтамте, назначил роль почтмейстера, и так далее. Много высказывал Гоголь таких ясных и верных взглядов на искусство, таких тонких пониманий художества, что я был очарован им. Большую же часть во время езды, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, он читал какую-то книгу, которую прятал под себя или клал в мешок, который всегда выносил с собою на станциях. В этом огромном мешке находились принадлежности туалета: какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей и, наконец, несколько книг. Сосед Гоголя, четырнадцатилетний наш Миша, живой и веселый, всегда показывал нам знаками, что делает Гоголь, читает или дремлет. Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке. Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нервов, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согревать ноги только ходьбою, и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку. Гоголь был тогда еще немножко гастроном; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского*, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим он говорил с своим неподражаемым малороссийским юмором, что верно повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что оп с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: "Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч., и проч.". В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек** посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону; а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты. * (Их готовила хозяйка станционного трактира Х. Е. Пожарская.) ** (Так называли слуг.) Так же весело продолжалась вся дорога... ...Помню я также завтрак на станции в Померани, которая издавна славилась своим кофеем и вафлями, и еще более была замечательна, тогда уже старым, своим слугою, двадцать лет ходившим, по-видимому, в одном и том же фраке, в одних и тех же чулках и башмаках с пряжками. Это был лакей высшего разряда, с самой представительной наружностью и приличными манерами. Его знала вся Россия, ездившая в Петербург. В какое бы время дня и ночи ни приехали порядочно одетые путешественники, особенно дамы, лакей-джентльмен являлся немедленно в полном своем костюме. Меня уверяли, что он всегда спал в нем, сидя на стуле. С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учтивый старик, оставляя вечно носимую маску, являлся другим лицом, так сказать, с внутренними своими чертами. В этом разговоре было что-то умилительно-забавное и для меня даже трогательное. 30-го октября в восемь часов вечера приехали мы в Петербург... ...17-го <ноября> ездили мы с Верой и с Гоголем к его сестрам. Гоголь был нежный брат, он боялся, что сестры его произведут на нас невыгодное впечатление; он во всю дорогу приготовлял нас, рассказывая об их неловкости и застенчивости и неумению говорить. Мы нашли их точно такими, как ожидали, то есть совершенными монастырками... Последующие дни Гоголь не так часто виделся с нами, потому что очень занимался своими сестрами: он сам покупал все нужное для их костюма, нередко терял записки нужных покупок, которые они ему давали, и покупал совсем не то, что было нужно; а между тем у него была маленькая претензия, что он во всем знает толк и умеет купить хорошо и дешево. Когда же Гоголь сидел у меня, то любимый его разговор был о том, как он весною увезет с собою Константина в Италию и как благотворно подействует на него эта классическая страна искусства... Наконец... выехали мы из Петербурга. Я взял два особых дилижанса: один четвероместный, называющийся фамильным, в котором сели Вера, две сестры Гоголя и я; другой двуместный, в котором сидели Гоголь и Фед. Ив. Васьков*. Впрочем, в продолжение дня Гоголь станции на две садился к сестрам, а я - на его место к Васькову. * (Знакомый С. Т. Аксакова.) Несмотря на то, что Гоголь нетерпеливо желал уехать из Петербурга, возвратный наш путь совсем не был так весел, как путь из Москвы в Петербург. Во-первых, потому что Васьков, хотя был самое милое и доброе существо, был мало знаком с Гоголем, и во-вторых, потому что последнего сильно озабочивали и смущали сестры. Уродливость физического и нравственного институтского воспитания высказывалась тут выпукло и ярко. Ничего, конечно, не зная и не понимая, они всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам. Принужденность положения в дороге, шубы, платки и теплая обувь наводили на них тоску, так что им делалось и тошно, и дурно. К тому же, как совершенные дети, беспрестанно ссорились между собою. Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение. Надобно сказать правду, что бедной Верочке много было хлопот и забот, и я удивлялся ее терпению. Я не знаю, что стал бы с ними делать Гоголь без нее. Они бы свели его с ума. Жалко и смешно было смотреть на Гоголя; он ничего не разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были некстати, не у места, не вовремя и совершенно бесполезны, и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека. Один Васьков смешил меня всю дорогу своими жалобами. Мы пленили его описанием веселого нашего путешествия с Гоголем в Петербург; он ожидал того же на возвратном пути, но вышло совсем напротив. Когда Гоголь садился вместе с Васьковым, то сейчас притворялся спящим и в четверо суток не сказал ни одного слова; а Васьков, любивший спать днем, любил поговорить вечером и ночью.  Москва. вид на Кремль. Литография А. Дюрана. 1830-е годы Он заговорил с своим соседом, но мнимоспящий Гоголь не отвечал ни слова. Всякое утро Васьков прекомически благодарил меня за приятного соседа, которого он досыта наслушался и нахохотался... Наконец на пятые сутки притащились мы в Москву. Натурально сначала все приехали к нам. Гоголь познакомил своих сестер с моей женой и с моим семейством и перевез их к Погодину, у которого и сам поместился. Они занимали мезонин: на одной стороне жил Гоголь, а на другой его сестры. Тут начались наши почти ежедневные свидания... 8 марта, при многих гостях совершенно неожиданно для нас, объявил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь сел за боковой круглый стол, вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, как он объелся грибков. Это было начало комической сцены, которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит сочинение. Впрочем, не только начало, но и вся сцена была точно так же читана естественно и превосходно. После этого, в одну из суббот, он прочел пятую главу, а 17-го апреля, тоже в субботу, он прочел нам... в маленьком моем кабинете, шестую главу, в которой создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг... Я не говорил о том, какое впечатление произвело на меня, па все мое семейство, а равно и на весь почти наш круг знакомых, когда мы услышали первое чтение первой главы "Мертвых душ". Это был восторг упоения, полное счастье, которому завидовали все, кому не удалось быть у нас во время чтения: потому что Гоголь не вдруг стал читать у других своих знакомых. Приблизился день именин Гоголя, 9-е мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Можно себе представить, как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью... На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин, и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь, хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях... Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы "Мцыри", и читал, говорят, прекрасно... Незабвенный Николай Васильевич Гоголь переселился к нам на Девичье поле прямо из знойной Италии. Он был изнежен южным солнцем, ему нужна была особенная теплота, даже зной; а у нас кстати случилась, над громадной залой с хорами, большая, светлая комната, с двумя окнами и балконом к восходу солнца, царившего над комнатой в летнее время с трех часов утра до трех пополудни... Нечего и говорить, каким почетом и, можно сказать, благоговением был окружен у нас Гоголь. Детей он очень любил и позволял им резвиться и шалить сколько угодно. Бывало, мы, то есть я с сестрою, точно службу служим: каждое утро подойдем к комнате Н. В., стукнем в дверь и спросим: "Не надо ли чего?" - "Войдите", - откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставали его еще в шерстяной фуфайке, поверх сорочки. "Ну, сидеть, да смирно", - скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки, или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги. Клочки эти он, иногда прочитывая вполголоса, рвал, как бы сердясь, или бросал на пол, потом заставлял нас подбирать их с пола и раскладывать по указанию, причем гладил по голове и благодарил, когда ему угождали; иногда же бывало, как бы рассердившись, схватит за ухо и выведет на хоры: это значило - на целый день уже и не показывайся ему. До обеда он никогда не сходил вниз в общие комнаты, обедал же всегда со всеми нами, причем был большею частью весел и шутлив. Особенно хорошее расположение духа вызывали в нем любимые им макароны; он тут же за обедом и приготовлял их, не доверяя этого никому... После обеда до семи часов вечера он уединялся к себе, и в это время к нему уже никто не ходил; а в семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей амфилады передних комнат, и начиналось хождение, а походить было где: дом был очень велик. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца, сидевшего в это время в своем кабинете за летописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления: он преспокойно сидел и писал. Изредка только, бывало, поднимет голову на Николая Васильевича и спросит: "Ну, что, находился ли?" - "Ниши, пиши, - отвечал Гоголь, - бумага по тебе плачет". И опять то Же; один пишет, а другой ходит. Ходил же Н. В. всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи (тогда о керосине еще не было и помину) оплывали, к немалому огорчению моей бережливой бабушки. Когда же Н. В. очень уж расходится, то моя бабушка, мать моего отца, сидевшая в одной из комнат, составляющих амфиладу его прогулок, закричит, бывало, горничной: "Груша, а Груша, подай-ка теплый платок, тальянец (так она звала Н. В.) столько ветру напустил, так страсть!" - "Не сердись, старая, - скажет добродушно Н. В., - графин кончу, и баста". Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх... Выезжал он из дома редко, и у себя тоже не любил принимать гостей, хотя характера был крайне радушного. Мне кажется, известность утомляла его, и ему было неприятно, что каждый ловил его слово и старался навести его на разговор; наконец он знал, что к отцу приезжали многие лица специально для того, чтобы "посмотреть на Гоголя", и когда его случайно застигали в кабинете отца, он моментально свертывался, как улитка, и упорно молчал... Гоголь жил у нас скорее отшельником... один день в году он считал своей обязанностью как бы рассчитаться со всеми своими знакомыми на славу, и в этот день он уже ничего не жалел. То был Николин день - его именины 9 мая. Злоба дня, весь внешний успех пиршества сосредоточивался на погоде. Дело в том, что обед устраивался в саду, в нашей знаменитой липовой аллее. Пойди дождь, и все расстроится... Сад был у нас громадный, на 10000 квадратных сажен, и весной сюда постоянно прилетал соловей. Но для меня собственно вопрос состоял в том: будет ли он петь именно за обедом; а пел он большего частью рано утром или поздно вечером. Я с детских лет имел страсть ко всякого рода певчим птицам, и у меня постоянно водились добрые соловьи. В данном случае я пускался на хитрость: над обоими концами стола, ловко укрыв ветвями, вешал по клетке с соловьем. Под стук тарелок, лязг ножей и громкие разговоры мои птицы оживали: один свистнет, другой откликнется, и начинается дробь и дудка. Гости восхищались. "Экая благодать у тебя, Михаил Петрович, умирать не надо. Запах лип, соловьи, вода в виду, благодать, да и только". Надо сказать, что Н. В. был посвящен в мою соловьиную тайну и сам оставался доволен, когда мой птичий концерт удавался, но никому, даже отцу, не выдавал меня... Сам дорогой именинник Н. В. в этот день из нелюдимого, неразговорчивого в обществе превращался в расторопнейшего, радушнейшего хозяина; постоянно наблюдал за всеми, старался, чтобы всем было весело, чтобы все пили и ели, каждого угощал и каждому находил сказать что-нибудь приятное. Из нескольких именинных дней, празднованных в нашем доме, я помню, что раза два случалась дурная погода, тогда обед происходил в доме, но это имело свою хорошую сторону: Николая Васильевича, несмотря на сильное сопротивление с его стороны, все-таки удавалось уговорить прочесть что-нибудь. Долго отбивается Гоголь; но, видя, что ничто не помогает, нервно передергивая плечами, взберется, бывало, в глубь большого, старинного дивана, примостится в угол с ногами и начнет читать какой-нибудь отрывок из своих произведений. Но как читать? - и представить себе невозможно: никто не пошевельнется, все сидят, как прикованные к своим местам... Обаяние чтения было настолько сильно, что, когда, бывало, Гоголь, закрыв книгу, вскочит с места и начнет бегать из угла в угол, - очарованные слушатели его остаются все еще неподвижными, боясь перевести дух... И только раз как-то, после подобного чтения, Пров Михайлович* глубоко вздохнул, скорчил уморительную физиономию, ему одному только доступную, и тихо пробурчал: "А вот и "муха не жужжит". Все рассмеялись, повеселел и сам Гоголь. * (Пров Михайлович Садовский (1818-1872) - выдающийся актер Малого театра, родоначальник знаменитой театральной династии Садовских.) Как на чрезвычайно нервного человека, чтение глубоко продуманных и прочувствованных им очерков производило на Н. В. потрясающее впечатление, и он или незаметно куда-то скрывался, или сидел, опустив голову, как бы отрешаясь от всего окружающего... * (Воспоминания Д. М. Погодина относятся но только к 1839 г., но и К 1841-1842 гг.) 18 мая, после завтрака, в 12 часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и с сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым* в тарантас, я с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом - на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву; Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантас и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, то есть до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том "Мертвых душ" совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили... * (Спутник Гоголя в этой поездке. Не имея своего экипажа и будучи материально стесненным, Гоголь, собираясь в дорогу, искал себе спутника. Он написал в газету "Московские ведомости" шутливое объявление, в котором сообщал о себе, что он, "человек смирный и незаносчивый, не будет делать во всю дорогу никаких запросов своему попутчику и будет спать вплоть от Москвы до Вены". Это объявление не было пропущено, а в напечатанном и дважды повторенном говорилось: "Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках", и далее сообщался адрес. Никто не находился, тогда вызвался поехать с Гоголем знакомый Аксаковых, юноша, только что окончивший университет, В. А. Панов (1819-1849) - впоследствии член московского славянофильского кружка, второстепенный литератор.) ...Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том "Мертвых душ". Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе, но вижу, что печатание их не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественнее, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят мои слабые силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете. Болезнь много отняла у меня времени, но теперь, слава богу, я чувствую по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора... Воздух теперь чудный в Риме, светлый. Но лето, лето - это я уже испытал - мне непременно нужно провести в дороге... О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня". * (Несколько раньше, в письме к Погодину, - после того как по дороге из Москвы в Рим он летом 1840 года "засиделся" в Вене и там заболел, - Гоголь так писал о "целебности" для него дороги: "О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какою бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную, и отважился бы даже на Камчатку, - чем дальше, тем лучше. Клянусь, я был бы здоров! Но мне всего дороги до Рима было три дня только. Тут мало было перемен воздуха...") Я завидую вашему знакомству с г. Гоголем, мои дорогие дети; мне известна его комедия "Ревизор" и некоторые другие его сочинения, и я составил себе самое высокое мнение о его таланте. Это писатель, созданный для того, чтобы быть достойным представителем нашей литературы так же, как он мог бы представлять и всякую иную. Вы не можете оценить его комедию так, как она этого заслуживает, потому что вы не знаете ни нравов, в ней обрисованных, ни (простите, крошки!) человеческого сердца - и слава богу! Вы не можете судить об удивительной правдивости кисти Гоголя, о vis comica (силе комизма), о глубине этого поэта, и, однако, вы имели удовольствие слышать его "Ревизора". - Я прочел его раз десять и перечту еще снова: по моему мнению, это - шедевр... Это письмо было послано в Рим из Сибири. Его писал находившийся на поселении в Красноярске после отбытия каторги декабрист В. Л. Давыдов, у которого Пушкин бывал когда-то в знаменитой Каменке и встречался там с другими декабристами. Письмо было адресовано дочерям Давыдова, жившим в то время в Риме и встретившимся с Гоголем. Давыдов отвечал на письмо 17-летней дочери Екатерины Васильевны, в котором она сообщила отцу, что познакомилась "с одним соотечественником - писателем, господином Гоголем", и признавалась, что комедия Гоголя ей не очень понравилась, что комедия эта "может позабавить два-три раза, особенно когда читает сам автор", но что сама она ее не прочитала.  М. С. Щепкин. Гравюра по рисунку акад. А. Добровольского Слова высокой оценки "Ревизора" ссыльным декабристом, по всей вероятности, дошли до Гоголя, так как несколько позже Давыдов писал дочерям: "Мне очень приятно, что г. Гоголь знает, что в глубине Сибири он имеет пламенных почитателей". Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благородными слезами не раз теперь полны глаза мои... О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно... Мне тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мной приедут Михаил Семенович и Константин Сергеевич*; им же нужно - Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергеевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться... я бы ехал тогда с тем молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище: стало быть, ее нужно беречь... До свиданья! Как прекрасно это слово!.. * (М. С. Щепкин и К. С. Аксаков.) В последнем этаже дома, в просторной передней я наткнулся на сухого краснощекого старичка, почтенного владельца этажа, г. Челли, с которым так дружно жил впоследствии, и спросил его о квартире Гоголя. Старичок объявил, что Гоголя нет дома, что он уехал за город, никому неизвестно, когда будет назад, да и по прибытии, вероятно, сляжет в постель и никого принимать не станет. Видно было, что почтенный старичок выговаривал затверженный урок, который ему крепко-накрепко был внушен Гоголем, боявшимся посетителей, как огня. Но покуда я старался убедить его в своих правах на свидание с его жильцом, дверь прямо перед нами отворилась, и из нее высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку: "Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо впустить. Здравствуйте. Что же вы не приезжали к карнавалу?" - прибавил он по-русски, вводя меня в свою комнату и затворяя двери. Надо сказать, что около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный писатель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Верна, под которым я и состоял до конца. Комната Николая Васильевича была довольна просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни извнутри. О бок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенной диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату, тогда принадлежавшую В. А. Панову, а по отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро - стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник, или, говоря пышнее, римская лампа стояла на окне, и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей... Гоголь обрадовался нашей новой встрече, расспрашивал, каким путем прибыл я в Италию, одобрял переезд из Анконы с ветурином* и весьма сожалел, что предварительно я не побывал в Париже. Ему казалось, что после Италии Париж становится сух и безжизнен, а значение Италии бросается само собой в глаза после парижской жизни и парижских интересов. Впоследствии он часто развивал эту мысль. Между тем время было обеденное. Он повел меня в известную историческую австерию** под фирмой Lepre (заяц), где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика... Простота, общежительность итальянская всегда более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя и во всех других сферах жизни... В середине обеда к нам подсел довольно плотный мужчина, с красивой круглой бородкой, с необычайно умными, зоркими карими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная, проницательная мысль выражались, так сказать, осязательно. Это был А. А. Иванов***, с которым я тут впервые познакомился. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником... Намекая на древний обычай возвещать первое мая и начало весны пушкой с крепости св. Ангела и на соединенные с ним семейные обыкновения, он спрашивал: намеревается ли почтенный сервиторе piantar il Magio (слово в слово - сажать май месяц) или нет? Сервиторе отвечал, что будет ждать примера от синьора Николо и т. д. ...Прямо из австерии перешли мы на Piazza d'Espagna (Испанскую площадь; итал.) в кофейню "Del buon gusto" ("Хорошего вкуса"; итал.), кажется, уселись втроем в уголку за чашками кофе, и тут Гоголь до самой ночи внимательно и без устали слушал мои рассказы о Петербурге, литературе, литературных статьях, журналах, лицах и происшествиях, расспрашивая и возбуждая повествование, как только начинало оно ослабевать. Он был в своей тарелке и, по счастливому выражению гравера Ф. И. Иордана, мог брать что ему нужно было или что стоило этого, полной рукой, не давая сам ничего. Притом же ему видимо хотелось исчерпать человека вдруг, чтоб избавиться от скуки возвращаться к нему еще несколько раз. Наслаждение способностию читать в душе и понимать самого человека, по поводу того, что он говорит, - способностию, которой он, как все гениальные люди, обладал в высшей степени, тоже находило здесь материал... Гоголь прерывал иногда беседу замечаниями чрезвычайно глубокими, но не возражал ни на что и ничего не оспаривал. Раз только он обратился ко мне с весьма серьезным, настоятельным требованием, имевшим вместе с тем юмористический оттенок, удивительно грациозно замешанный в его слова. Дело шло о Гребенке****, как о подражателе Николая Васильевича, старавшемся даже иногда подделаться под его первую манеру рассказа. "Вы с ним знакомы, - говорил Гоголь, - напишите ему, что это никуда не годится. Как же это можно, чтоб человек ничего не мог выдумать? Непременно напишите, чтоб он перестал подражать. Что ж это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите просто, что я сержусь и не хочу этого. Ведь он же родился где-нибудь, учился же грамоте где-нибудь, видел людей и думал о чем-нибудь. Чего же ему более для сочинения? Зачем же он в мои дела вмешивается? Это неблагородно, напишите ему. Если уже нужно ему за другим ухаживать, так пусть выберет, кто поближе к нему живет!.. Все же будет легче. А меня пусть оставит в покое, пусть непременно оставит в покое". Но в голосе и в выражении его было так много комического жара, что нельзя было не смеяться. Так сидели мы до самой ночи. Гоголь проводил меня потом к моей квартире и объявил, что завтра утром он придет за мной и покажет кой-что в городе. * (Извозчиком.) ** (Столовая, ресторан.) *** (Александр Андреевич Иванов (1806-1858) - великий русский художник, создатель картины "Явление Христа народу"; Гоголь познакомился и подружился с ним в Риме.) **** (Евгений Павлович Гребенка (1812-1848) - украинский писатель, писавший на украинском и на русском языках.) На другой день он действительно явился и добродушнейшим образом исполнил свое обещание. Он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обыкновенные новичкам порывы к частностям, и только указывал точки, с которых должно смотреть на целое и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах, рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проникнуться им. Вообще он показывал Рим с таким наслаждением, как будто сам открыл его... Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу... Правда, некоторые черты, как увидим, уже показывали начало нового и последнего его развитии, но они еще мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной, господствующей краски. 1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости, и вот почему воспоминание с особенной силой привязывается к этому году... 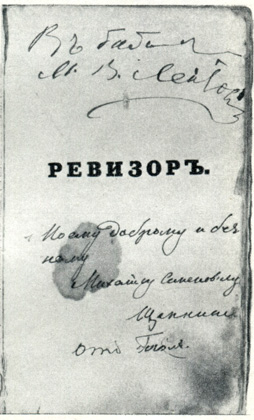 Экземпляр 'Ревизора' с дарственной надписью Гоголя Щепкину Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской "Мертвых душ". Остальное время мы жили розно и каждый по-своему. Правда, в течение дня сталкивались мы друг с другом довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вместе, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условие не давать чувствовать себя товарищу ни под каким видом. Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что-либо от себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную свободу действий, поставила каждого в нравственную независимость, которою он всего более дорожил. Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из потребностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь... Почти каждое утро заставал я его в кофейной "Del buon gusto", отдыхающим на диване после завтрака, состоящего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок... Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку па том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома "Мертвых душ" приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: Ecco, ladrone! (Вот тебе, разбойник!) - Гоголь останавливался, приговаривал, улыбаясь: "Как разнежился, негодяй!" - и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической коте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова: "щекатурка" - употребил "штукатурка". Гоголь остановился и спросил: "Отчего так?" - "Да правильнее, кажется". - Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: "А за науку спасибо". Затем он сел по-прежнему в кресла, помолчал немного, и снова полилась та же звучная, по-видимому простая, но возвышенная и волнующая речь. Случалось также, что, прежде исполнения моей обязанности переписчика, я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал: "Старайтесь не смеяться, Жюль". Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений, и делал усилия над самим собой, но в те годы усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания "Повести о капитане Копейкине", первая редакция которой, далеко превосходящая в силе и развитии напечатанную, только недавно сделалась известна публике*. Когда по окончании повести, я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз опрашивал: "Какова повесть о капитане Копейкине?" * (В 1857 г., когда печатались эти воспоминания Анненкова, был известен вариант, произвольно скомпонованный из разных редакций "Повести". Подлинная первоначальная редакция стала известна позже.) - "Но увидит ли она печать когда-нибудь?" - заметил я. "Печать - пустяки, - отвечал Гоголь с самоуверенностью: - все будет в печати". Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед его глазами) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной шестой главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: "Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью". Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, но которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: "Поверьте, что и другие не хуже ее". В ту же минуту, однако ж, возвысив голос, он продолжал: "Знаете ли, что нам до cenare (ужина) осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся"*, По светлому выражению его лица, да и по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это сказалось еще более на дороге. Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости, который вполне напомнил мне старого Гоголя, я не ошибся и тогда... * (Сады Саллюстия - ныне живописный город, в котором разбросаны руины бывших построек, а великолепная вилла Людовизи замечательна тем, что отворяется для немногих посетителей, наделенных особенной рекомендацией посланника или значительных лиц города. В ней, как известно, сохраняются колоссальный бюст Юноны и знаменитая статуя "Ария и Петус". Причину ее недоступности объясняют покражей или порчей, произведенной в ней какими-то английскими туристами. Примеч. Анненкова.)) Вообще следует помнить, что в эту эпоху он был занят внутренней работой, которая началась для него со второго тома "Мертвых душ", тогда же им предпринятого, как я могу утверждать положительно. Значение этой работы никем еще не понималось вокруг него, и только впоследствии можно было разобрать, что для второго тома "Мертвых душ" начинал он сводить к одному общему выражению как свою жизнь, образ мыслей, нравственное направление, так и самый взгляд на дух и свойство русского общества... С подобными эпохами поворотов мысли и направления неизбежно связано колебание воли и суждения, как это и было здесь. Он осматривал и взвешивал явления, готовясь оторваться от одних и пристраститься к другим. Так, например, долго, с великим вниманием и с великим участием слушал он горячие повествования о России, заносимые в Рим приезжими, но ничего не говорил в ответ, оставляя последнее слово и решение для самого себя. Отсюда также и те длинные часы немого созерцания, какому он предавался в Риме. На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду богатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью*. * (Равнина, окружающая Рим, между Албанскими и Сабинскими горами.) ...Иногда уходили мы с ним, и обыкновенно в самый полдень, под непроницаемую тень той знаменитой аллеи, которая ведет из Альбано в Кастель-Гандольфо (загородный дворец папы), известна Европе под именем альбанской галереи и утрудила на себе, неисчерпанная вполне, воображение и кисти стольких живописцев и стольких поэтов. Под этими массами зелени итальянского дуба, платана, пины* и проч. Гоголь, случалось, воодушевлялся как живописец (он, как известно, сам порядочно рисовал). Раз он сказал мне: "Если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!" - и он сопровождал слова свои энергическими, непередаваемыми жестами. Не надо забывать, что вместе с полнотой внутренней жизни и творчества Гоголь обнаруживал в это время и признаки самонадеянности, которая высказывалась иногда в быстром замечании, иногда в гордом мимолетном слове, выдававшем тайну его мысли. Он еще тогда вполне сберегал доверенность к себе, наслаждался чувством своей силы и полагал высокие надежды на себя и на деятельность свою. О скромности и христианском смирении еще и помину не было. Так, при самом начале моего пребывания в Риме, разгуливая с ним по отдаленным улицам его, мы коснулись неожиданно Пушкина и недавней его смерти. Я заметил, что кончина поэта сопровождалась явлением, в высшей степени отрадным и поучительным: она разбудила хладнокровный, деловой Петербург и потрясла его... Гоголь отвечал тотчас же каким-то горделивым, пророческим тоном, поразившим меня: "Что мудреного? человека всегда можно потрясти... То ли еще будет с ним... увидите". В самом Альбано, на одной из вечерних прогулок, кто-то сказал, что около шести часов вечера передние всех провинциальных домов в России наполняются угаром от самовара, который кипит на крыльце, и что само крыльцо представляет оживленную картину: подбежит девочка или мальчик, прильнет к трубе, осветится пламенем раздуваемых углей и скроется. Гоголь остановился на ходу, точно кто-нибудь придержал его: "Боже мой, да как же я это пропустил, - сказал он с наивным недоумением, - а вот пропустил же, пропустил, пропустил", - говорил он, шагая вперед и как будто попрекая себя... * (Пина, пиния - итальянская сосна с зонтичной верхушкой.) ...Я еще ни слова не сказал о существенном качестве Гоголя, сильно развитом в его природе и которого он тогда еще не старался подавить в себе насильственно, - о юморе его. Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины - меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и наконец он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. ...Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития, - критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью... Множество проявлений этого юмора заключено в самой статье о Риме; присутствие его чувствовалось тогда почти в каждом разговоре Гоголя, но собрать проблески этой способности теперь нет никакой возможности... 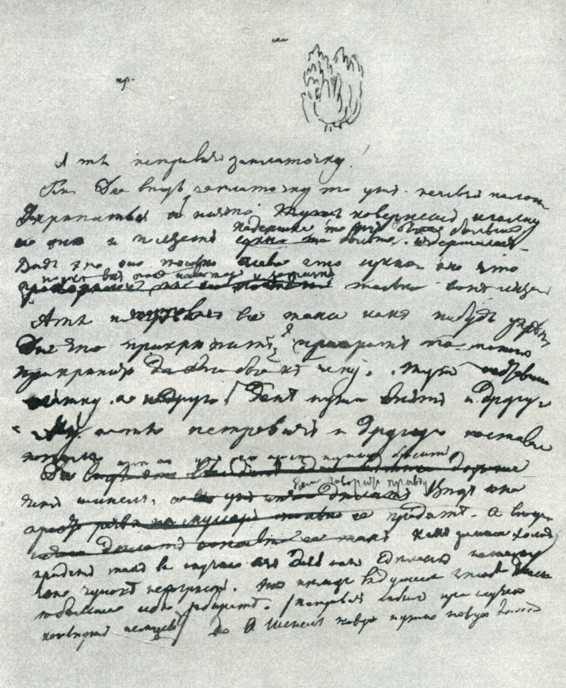 Шинель. Автограф первой редакции ...В Риме не было тогда постоянного театра, но какая-то заезжая труппа давала пьесы Гольдони*, Нотте** и переделки из французских водевилей. Спектакль начинался обыкновенно в десять часов вечера и кончался за полночь. Мы довольно часто посещали его, ради первой его любовницы***, красавицы в полном смысле слова, очень хорошего jeune premier (первого любовника, франц.), а более ради старика Гольдони, который, по весьма спокойному, правильному развитию сложных завязок в своих комедиях, составлял противоположность с путаницей и небывальщиной французского водевиля. Гоголь весьма высоко ценил итальянского писателя. Ночь до спектакля проводили мы в прогулках по улицам Рима, освещенным кофейнями, лавочками и разноцветными фонарями тех сквозных балаганчиков с плодами и прохладительными напитками, которые, наподобие небольших зеленых храмиков, растут в Риме по углам улиц и у фонтанов его. В тихую летнюю ночь Рим не ложится спать вовсе, и как бы поздно ни возвращались мы домой, всегда могли иметь надежду встретить толпу молодых людей без курток или с куртками, брошенными на одно плечо, идущих целой стеной и вполголоса распевающих мелодический туземный мотив. Бряцание гитары и музыкальный строй голосов особенно хороши бывали при ярком блеске луны: чудная песня как будто скользила тогда тонкой серебряной струей по воздуху, далеко расходясь в пространстве. Случалось, однако же, что удушливый сирокко****, перелетев из Африки через Средиземное море, наполнял город палящей, раскаленной атмосферой, тогда и ночи были знойны по-своему; жало удушливого ветра чувствовалось в груди и на теле. В такое время Гоголь видимо страдал: кожа его делалась суха, на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере. Наскучив прогулками и театрами, мы проводили иногда остаток вечера у себя дома за бостоном*****. Надо сказать, что ни я, ни хозяин, ни А. А. Иванов, участвовавший в этих партиях, понятия не имели не только о сущности игры, но даже и о начальных ее правилах. Гоголь изобрел по этому случаю своего рода законы, которые и прикладывал поминутно, мало заботясь о противоречиях и происходившей оттого путанице... Лучше всего была обстановка игры; Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный ночник, но имевшую достоинство напоминать, что при таких точно лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и проч. Затем Гоголь принимал в свое распоряжение фляжку орвиетто******, захваченную кем-нибудь на дороге, и мастерским образом сливал из нее верхний пласт оливкового масла, заменявший, тоже по древнему обычаю, пробку и укупорку. Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными матерьялами в сильной задумчивости. Одно обстоятельство только тревожило меня, возбуждая при этом сильное беспокойное чувство, которое выразить я, однако же, не смел перед Гоголем, а именно: тогдашняя его причуда - проводить иногда добрую часть ночи дремля на диване и не ложась в постель. * (Карло Гольдони (1707-1793) - выдающийся итальянский драматург, автор и до сих пор не сошедших со сцены пьес "Хозяйка гостиницы", "Слуга двух господ" и др.) ** (Альберто Нотте (Нота) (1771-1817) - автор комедий.) *** (То есть драматической артистки, исполняющей роли первых любовниц.) **** (Юго-восточный ветер.) ***** (Карточная игра.) ****** (Сорт итальянского вина.) Так, однажды во Фраскати мы долго разговаривали, сидя на окне локанды*, глядя на темное голубое небо и прислушиваясь к шуму фонтана, который журчал на дворе. Беседа шла преимущественно об отечестве; Гоголь по временам вдыхал в себя ароматический запах итальянской ночи и при воспоминании о некоторых явлениях нашего быта приговаривал задумчиво: "А может быть, все так и нужно покамест". Вообще мысль о России была в то время, вместе с мыслью о Риме, живейшей частью его существования. Он вполне был прав, утверждая впоследствии, что никогда так много не думал об отечестве, как вдали от него, и никогда не был так связан с ним, как живя на чужой почве: чувство, испытываемое многими людьми с гораздо меньшими способностями и меньшим призванием, чем Гоголь. Между тем кроткая свежесть ночи, тишина ее и однообразный плеск фонтана погрузил меня в дремоту: я заснул на окне в то самое время, как мне казалось, что все еще слышу говор фонтана и различаю шепот собеседника... Вероятно, Гоголь также продремал всю ночь на окне, потому что он разбудил меня поутру точно в том виде и костюме, как был накануне... * (Гостиницы.) За день до моего отъезда из Рима мы перебрались в Альбано, где решились ожидать прибытия почтовой кареты Перети, в которой я взял место до Неаполя. На другой день после прощального дружеского обеда в обыкновенной нашей локанде Гоголь проводил меня до дилижанса и на расставанье сказал мне с неподдельным участием и лаской: "Прощайте, Жюль. Помните мои слова. До Неаполя вы сыщете легко дорогу; но надо отыскать дорогу поважнее, чтоб в жизни была дорога; их множество, и стоит только выбрать..." Мы расстались... В октябре 1841 года в Париже получено было известие, что Гоголь уехал в Россию для печатания первого тома "Мертвых душ". ...С приближением к концу своего заветного труда Гоголь начинает уже смотреть на себя как на человека, в жизни которого слышатся шаги неведомого, таинственного предопределения. Взгляд этот на самого себя все более и более укрепляется по мере развития работы и, наконец, переходит в убеждение, которое нераздельно срастается со всем его существованием. При поверке его писем всеми известными обстоятельствами его жизни мы видим, как по мере окончания какой-либо части романа, свежих, живых отпрысков, данных им, или обогащения его каким-либо новым представлением, Гоголь проникается каждым из этих явлений, настраивает душу на высокий лад и возвещает друзьям событие торжественными, пророческими намеками, приводившими их в такое недоумение сначала. Он смотрит на самого себя при таких случаях со стороны (объективно) и говорит о себе прямо с благоговением, какое следует питать ко всякому, хотя бы и непонятному, орудию предопределения. Его вдохновенные, лирические возгласы, частое провозвестие близкого и великого будущего до того совпадают с годами и эпохами окончания разных частей романа, с намерениями автора в отношении их, что могут служить несомненными свидетельствами хода его работ и предприятий... Гоголя мы уже давно ждали, но, наконец, и ждать перестали; а потому внезапное появление его у нас в доме 18-го октября <1841 г.> произвело такой же радостный шум, как и в 39-м году письмо Щепкина, извещавшее о приезде Гоголя в Москву: крик Константина точно так же всех напугал. В этот год последовала сильная перемена в Гоголе, не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен, и тихая покорность воле божией слышна была в каждом его слове: гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало. Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или не замеченный им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора. Проявление последней его проказливости случилось во время переезда Гоголя из Петербурга в Москву. Он приехал в одной почтовой карете с Петр. Ив. Пейкером* и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверял его, что он не Гоголь, а Гогель, прикинулся смиренным про- стячком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: "нет, не знаю". Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа. Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание его видеть. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился. Он был прав: за что Гоголь дурачил его трое суток? Между тем Гоголь сделал это единственно для того, чтобы избавиться от докучливых вопросов, предлагаемых обыкновенно писателю: "Что вы теперь пишете? Когда подарите нас новым произведением? Для чего вы не напишете того-то?" и пр. и пр. Можно ли строго осудить за это Гоголя, который так любил уединение дороги? Невинная выдумка возвращала ему полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям. Между тем многие его за это обвиняли. Мы успокоили Пейкера, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми. Впоследствии они обедали у нас вместе, и Гоголь был любезен с своим прежним дорожным соседом. * (Чиновник, знакомый С. Т. Аксакова.) Гоголь точно привез с собой первый том "Мертвых душ", совершенно конченный и отчасти отделанный. Он требовал от нас, чтоб мы никому об этом не говорили, а всем бы отвечали, что ничего готового нет. Начались хлопоты с перепискою набело "Мертвых душ"... ...Удар для меня никак неожиданный: запрещают всю рукопись. Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев через два дни объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной, и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что, кроме одного незначительного места: перемены двух-трех имен (на которые я тотчас же согласился и изменил), нет ничего, что бы могло навлечь притязания цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в комитет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию. Ибо обвинения, все без исключения, были комедия в высшей степени. Как только, занимавший место президента, Голохвастов услышал название "Мертвые души", - закричал голосом древнего римлянина: "Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертья". В силу, наконец, мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских* душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензоры, что мертвые значит ревижские души, произошла еще большая кутерьма. "Нет! - закричал председатель и за ним половина цензоров: - этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа - уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права". Наконец сам Снегирев, увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям; что здесь совершенно о другом речь; что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаши, которую произвела такая странная покупка, что это - ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло. * (Ревижские (ревизские) души - так назывались мужчины-крепостные, числящиеся у помещика по переписи (ревизии). Ревизские списки составлялись раз в 7-10 лет, и число крепостных (ревизских душ) считалось неизменным до следующей переписи, сколько бы ни было в их числе умерших (мертвых душ).) "Предприятие Чичикова, - стали кричать все, - есть уже уголовное преступление". - "Да, впрочем, и автор не оправдывает его", - заметил мой цензор. - "Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души". Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. "Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет". Это главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как то: в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. "Да, ведь и государь строит в Москве дворец!" - сказал цензор... Тут, по поводу, завязался у цензоров разговор единственный в мире. Потом произошли другие замечанья, которые даже совестно пересказывать, и, наконец, дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места. Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня в добавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком серьезно. Из-за их комедий или интриг мне похмелье. - У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод. Другого я ничего не могу предпринять для моего существования... Когда московская цензура не разрешила к печати "Мертвые души", Гоголь попросил Белинского (тайно от своих московских друзей) помочь провести рукопись через петербургскую цензуру. Петербургский цензурный комитет 36 мест в рукописи признал "сомнительными", а повесть о капитане Копейкине запретил. "Это одно из лучших мест в поэме, и без него - прореха, которой я ничем не в силах заплатать или зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет", - писал Гоголь Плетневу. Он вынужден был переделать так, что Копейкин - безногий инвалид Отечественной войны 1812 года - теперь имел дело не с важными генералами, а с незначительным чиновником, и просил он не о копейке на хлеб насущный, а требовал поразвлечь его - театра, французского вина. В таком виде прочли эту повесть современники.  Абрамцево. Дом со стороны двора. Фотография С нетерпением ждал Гоголь разрешенную рукопись, высланную из Петербурга в Москву. Однако она задержалась где-то в пути на целый месяц. Все это время он томился, страдал и в неподдельной тоске спрашивал у всех об участи рукописи. Денег у Гоголя не было, и печатались "Мертвые души" в долг, а бумагу взял, на себя в кредит Погодин. Печатались "Мертвые души" два месяца, и почти тотчас, как только книга вышла, Гоголь, после крупной размолвки с Погодиным, неожиданно для друзей собрался в обратный путь - за границу. Вскоре после отъезда Гоголя "Мертвые души" быстро разлетелись по Москве и потом по всей России. Книга была раскуплена нарасхват. Впечатления были различны, но равносильны. Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы; они находили в ней много карикатуры и, основываясь на мелочных промахах, считали многое неверным и неправдоподобным. Должно сказать, что некоторые из этих людей, прочитав "Мертвые души" во второй и даже в третий раз, совершенно отказались от первого своего неприятного впечатления и вполне почувствовали правду и художественную красоту творения. Третья часть читателей обозлилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России... Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит, наконец, знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить всё печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку! Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Всё, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей, Великим всемирным поэтом именуют его, парящим над всеми другими гениями мира, как царит орел над другими высоколетающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе - он бог! Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, - всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением; ему не позабыться в сладком обаяньи им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и всё обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество. И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, Неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным Ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей... ...Он* привез "Мертвые души" Гоголя - удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых навозных испарений, там он увидит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно Нам в самом деле; и там, и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue (на Небеса; нем.), а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди... * (Имеется в виду Н. П. Огарев. Герцен находился в это время в ссылке в Новгороде.) С июня 1842 по апрель 1848 года - почти полных шесть лет - Гоголь снова проводит за границей, переживая в это время величайшую творческую трагедию. Он в непрерывных скитаниях-то он в Германии, то в Риме, то В Ницце, то в Париже, то в Австрии, то снова в Германии и Италии. Он тяжело болен, часто и тщетно лечится на курортах в Остенде, Гомбурге, Бадене, Карлсбаде и в других местах. Он отдаляется почти от всех людей. Возле него лишь узкий круг интимных друзей. Это, с одной стороны, тяжело больной, Лечившийся за границей поэт Н. М. Языков; Жуковский, вышедший в отставку И тоже поселившийся за границей; с другой - фрейлина императрицы А. О. Смирнова (урожд. Россет) и ее брат; семья графа Вьельгорского, графа А. П. Толстого; княгиня З. Н. Волконская. В большинстве это были люди хотя и связанные с литературой, но сановные, близкие ко двору и в обстановке обострявшихся противоречий в жизни России и в Европе занимавшие сугубо охранительные позиции. Они всё более и более поднимали в Гоголе религиозно-мистические настроения или сами, как Смирнова-Россет, благоговейно отдавались его духовному руководству. Этим как бы завершилось отгораживание писателя от передовых общественных кругов, начатое еще "московскими друзьями" - Погодиным, Шевыревым и благожелательным, но ревниво оберегавшим Гоголя от "посторонних" влияний С. Т. Аксаковым. Вначале Гоголь деятельно занимается первым изданием своих "Сочинений", начатым в Петербурге. Но главное для него - работа над 2-м и 3-й (как было замыслено) томами "Мертвых душ", которые представляются писателю всё более и более грандиозными по замыслу и назначению. "...не могу пе видеть ее малозначительности в сравнении с другими, имеющими Последовать за ней частями, - пишет Гоголь о первой части "Мертвых душ" Жуковскому. - Она, в отношении к ним, все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах..." Все усложняя поставленную задачу и делая ее по существу невыполнимой - создать среди царства пошлости положительные и даже идеальные характеры и показать пути исправления Чичиковых и Плюшкиных, - Гоголь стал думать, что для решения ее ему нужно самое высокое духовное совершенствование, нужна помощь свыше, от бога. Подвижничество - вот что казалось ему нужным для окончания работы. И всё дальше и дальше откладывал он сроки завершения поэмы. Не допуская мысли выпустить произведение художественно несовершенное, он вместе с тем мучительно ощущает жизненную несостоятельность и неправдоподобие перевоплощения героев "недостатков" в героев "добродетели".  С. Т. Аксаков. Рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова, 1844 г. Еще по поводу обещаний Гоголя в 1-м томе "Мертвых душ": представить в продолжении поэмы "несметные богатства русского Духа" и таких людей, перед которыми "мертвыми покажутся добродетельные люди других племен", Белинский в тревожном раздумье писал: "Много, слишком много обещано, так много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на свете". "Верь, что я употреблю все силы производить успешно свою работу, - пишет Гоголь Шевыреву в феврале 1843 года, - что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но вследствие устройства головы моей я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, недодуманного творения". И в том же году - Плетневу; "Сочинения мои так тесно связаны с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее, сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений". Замкнув себя в "душевном монастыре", как он сам называл свое существование в эти годы, изнурив себя в труде, чувствуя недовольство его результатами, доведя себя до почти полной потери способности творить, Гоголь сжигает в 1845 году все написанное для второго тома. Он постоянно нуждался, и ему помогали его состоятельные друзья. Вынужден он был обращаться с просьбой об оказании помощи и к царю. Вслед за Пушкиным он был в числе первых профессиональных писателей на Руси, зависевших от литературного заработка. От своей части небольшого имения он давно отказался в пользу родных, а выпуск "Мертвых дуга" и прежних сочинений при всей громкой славе не создали ему материальной независимости. "Я думаю, что уже сделал настолько, чтобы дали мне возможность окончить мой труд, не заставляя меня бегать по сторонам, подыматься на аферы... Я нищий и не стыжусь этого звания", - писал он. Между тем обострившаяся болезнь требовала разъездов, знаменитые европейские врачи ставили разные диагнозы и направляли писателя то на север, то на юг, то на минеральные воды, то на морские купанья. Да и само душевное состояние - серьезное нервное расстройство - то и дело толкало его в дорогу. В 1844 году Гоголь вдруг стал рассылать своим друзьям в Москву сборник нравственных поучений средневекового богослова Фомы Кемпийского "Подражание Христу", давая подробные советы, как заняться с помощью этой книги нравственным самосовершенствованием. В ответ он получил решительное возражение С. Т. Аксакова: "Вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, нисколько не зная моих убеждений. Да еще как? В указанное время после кофею, и разделяя чтение па главы, как на уроки... И смешно и досадно... И в прежних Ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнение. Я боюсь, как огня, мистицизма; а мне кажется, что он как-то проглядывает у Вас... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб но пострадал художник. Чтобы творческая сила чувств не охладела от умственного напряжения отшельника". В 1846 году была написана "Развязка Ревизора" - своего рода эпилог к пьесе, в котором Гоголь истолковывает свою комедию в религиозно-нравственном духе, утверждая, что в "Ревизоре" изображена вовсе не живая социальная действительность, а душа человека, человеческие страсти. И что город, выведенный в пьесе, - также "наш душевный город", и что в нем "бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники". Гоголь еще до напечатания послал экземпляр "Развязки" знаменитому актеру Малого театра и большому своему другу М. С. Щепкину, чтобы тот мог поставить ее в свой бенефис. В чрезвычайной тревоге и протестуя, Щепкин отвечал ему: "...до сих пор я изучал всех героев "Ревизора", как живых людей... я так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня вообще - это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть... Но давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился. Видите ли, какое давнее знакомство? Вы из целого мира собрали несколько человек в одно сборное место, в одну группу; с этими в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня. Нет, я их вам не дам! не дам, пока существую". Тогда же Гоголь в предисловии ко второму изданию "Мертвых душ" почти отрекается от своего величайшего художественного создания, признавая, что в нем лишь частично отражена жизненная правда: "В книге этой многое написано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одну сотую часть того, что делается на нашей земле". А. О. Смирновой-Россет в июне 1845 года он пишет: "Вы коснулись "Мертвых душ" и просите меня не сердиться за правду, говоря, что исполнились сожаления к тому, над чем прежде смеялись. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно "Мертвых душ"... Была у меня точно гордость, но не моим настоящим, но теми свойствами, которыми владел я; гордость будущим шевелилась в груди". Он был огорчен, что в его сатире не заметили горьких слез и мечты о прекрасном. В 1846 году в австрийском городке Бамберге Гоголь начал работать над книгой нравственных поучений и наставлений "Выбранные места из переписки с друзьями", придавая ей исключительное значение. По словам Белинского, книга эта явилась "едва ли не самой странной и самой поучительной книгой, какая когда-либо появлялась на русском языке". Отсылая рукопись в Петербург к Плетневу, Гоголь просил, отложив все дела, срочно и тайно от всех печатать книгу: "Она нужна, слишком нужна всем... Это моя единственная дельная книга". "Никогда еще доселе не питал я такого сильного желания быть полезным", - писал Гоголь в предисловии к книге. Он был глубоко убежден, что его посетило божественное откровение. Встретив в Бамберге Анненкова, он звал его приехать к нему в Неаполь. - Приезжайте в Неаполь, - говорил он, - ...я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить. Кто знает, где застигнет человека новая жизнь... Гоголь вскоре закончил работу над "Перепиской". В ней он лишь отчасти использовал свои действительные письма 1843-1846 гг., а большинство статей написал в форме писем заново. В них он хотел ознакомить читателя с "бедами, происходящими от нас самих внутри России". Обращаясь к людям разных положений, званий, занятий, писатель звал к самосовершенствованию каждого, чтобы поднять каждое место и звание на законную, по мнению Гоголя, высоту. Звать только к самосовершенствованию в царской России значило лишь укреплять феодально- крепостнические порядки. Писатель звал к сохранению патриархальности: пусть все останутся на своих местах, но только пусть каждый станет хорошим - царь, губернатор, помещик, крепостной крестьянин. А. О. Смирнова-Россет, прочитав "Переписку" и говоря о разных категориях возможных читателей этой книги, писала Гоголю в частности о помещиках: "Живя уединенно, вдали от шумов, внутри земли и своего народа, все, что говорится о русских коренных началах... находит <у них> более сильный отголосок, и ваша книга, которой главная тема душа и прочное дело жизни, христианство, царь и Россия, - помещиками, как я надеюсь, будет оценена..." Как ни странно, книга эта сильно пострадала от цензуры. Из нее были изъяты как раз те письма, которые, по словам Гоголя, были направлены к тому, чтобы получше познакомить с бодами внутри России, и в которых он говорил о "способах исправить многое". Но цензору показалась опасной чрезмерная тревога Гоголя за судьбу родины, ее "нестроение полнейшее", как писал он. 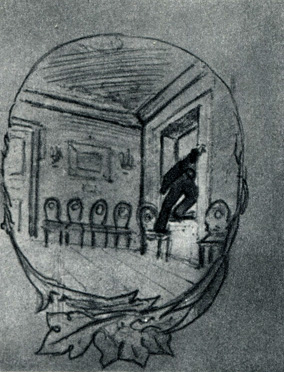 'Женитьба'. Рисунок Н. В. Гоголя "Выбранные места из переписки с друзьями" были восторженно встречены реакционной печатью. Почитатели таланта Гоголя и его враги поменялись мостами. Булгарин, раньше всячески поносивший произведения Гоголя, называл новую его книгу "лучшим его сочинением, заставляющим любить и уважать автора". "Отныне начинается, - писал он, - новая жизнь для г. Гоголя, мы вполне надеемся получить от него чего-нибудь истинно прекрасного". Вигель, так неприязненно отнесшийся к "Ревизору", теперь писал; "Не могу описать восторгов, с которыми смотрел я на перерождение Гоголя... И что за мысли. И какая выразительность". Двойственно отнеслись к книге славянофилы. С многими из них Гоголя связывала личная дружба. Одни из них восторгались книгой, другие осуждали ее. Гоголь, по мнению последних, чересчур откровенно высказал то, в чем сами они не решались признаться. "Они боялись, - писал по этому поводу Белинский, - крайних выводов собственного учения, а он - человек храбрый, которому нечего терять, ибо все из себя вытряс, он идет до последних результатов". Гоголь прекрасно сознавал сектантскую заинтересованность в нем славянофилов, он всячески избегал участвовать в их печатных органах. "Всякий из них, пристрастись к одной какой-нибудь идее, - писал он в 1844 году, - ...ждал меня в уверенности, что я разделю его мысли, поддержу... считая это первым условием и актом дружбы, не подозревая того, что эти требования были даже бесчеловечны. Жертвовать мне временем и трудами своими для поддержания их любимых идей было не возможно потому, что я... не вполне разделял их мысли". Сурово осудила переписку демократическая печать, хотя высказать исчерпывающее суждение о ней из-за цензуры она не могла. Не мог высказать свою подлинную оценку реакционно-мистических взглядов Гоголя и Белинский в рецензии на "Переписку" в журнале "Современник"; хотя все же он сумел показать, что книга эта означает трагическое падение писателя. Рецензия Белинского была особенно ощутима для Гоголя; ведь именно Белинский раскрыл раньше в своих статьях истинно великое значение его творчества. Гоголь написал критику, что он слышит в ого рецензии голос рассердившегося человека и что он не понимает, почему на него "рассердились все до одного в России", когда в его книге - "зародыш примирения всеобщего, а не раздора". Это письмо Гоголя и послужило поводом для написания знаменитого ответного "Письма к Гоголю", которое стало, по словам Герцена, завещанием Белинского - он писал тяжело больной, почти умирая*. * (Об этом говорится подробнее в воспоминаниях Анненкова, в разделе "Белинский".) После всей бури осуждений Гоголь горько признавался в письме к Жуковскому: "Появление моей книги разразилось точно в виде оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться, для того, чтобы видеть все мое неряшество и меньше грешить вперед". Еще более существенным было признание писателя в письме к Шевыреву: "Если и нынешняя моя книга, "Переписка" (по мнению даже неглупых людей и приятелей моих), способна распространить ложь и безнравственность и имеет свойство увлечь, то сам посуди, во сколько раз больше я могу увлечь и распространить ложь, если выступлю на сцену с моими живыми образами. Тут ведь я посильнее, чем в "Переписке".  А. С. Пушкин. Рисунок Н. В. Гоголя Вместе с тем Гоголь оправдывал появление своей книги тем, что она была как бы пробным оселком, на котором он мог проверить (в откликах на книгу), что такое нынешний русский человек, и что без нее - без этого "крюка" "Мертвые души" (второй том) "не вышли бы такими, какими им следует быть". Он признается, что не знает России, и жаждет скорее ее узнать. Белинскому вначале он хотел ответить еще одним очень раздраженным письмом, но изорвал его в клочки (по уцелевшим клочкам оно впоследствии было восстановлено) и заменил его другим, более спокойным. Говоря о пережитом им потрясении еще до получения письма Белинского и признав часть правды в письме Белинского, он знаменательно говорит: в России "многое переменилось с тех пор, как я В ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого-то ни было писания, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками". Очень обещающим - в результате всего пережитого - было его признание в письме к Жуковскому в январе 1848 года, перед скорым возвращением на родину: "Не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а но рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни". В конце января 1848 года Гоголь отправился в давно задуманную им поездку в Иерусалим, по "святым местам" - то есть по местам, связанным в евангельской легенде с жизнью Иисуса Христа. Гоголь выехал из Неаполя к берегам Сирии - в Бейрут. Священник Петр Соловьев, ехавший на пароходе вместе с паломниками в Иерусалим, увидел среди этого разноплеменного люда "маленького человечка с длинным носом, с черными жиденькими усами, о длинными волосами, причесанными a la художник, сутуловатого, постоянно смотревшего вниз. Белая поярковая с широкими полями шляпа на голове и итальянский плащ на плечах... составляли костюм путника. Все говорило, что это какой-нибудь путешествующий художник". Это был Гоголь. С ним был высокий плотный мужчина в темно-синей шинели и с красной феской на голове - его спутник генерал Крутов. Переезд через Сирийскую пустыню Гоголь совершил в сообществе со своим товарищем по Нежинской гимназии К. М. Базили, который был в это время русским генеральным консулом в Сирии и Палестине. В этой поездке Базили, как и подобало по его служебному положению, должен был играть роль полномочного вельможи, который признает над собой власть только "великого падишаха"*. Каково же было изумление арабов, когда они увидели высокого начальника в явной зависимости от его тщедушного и невзрачного спутника? Гоголь, но рассказу Базили, изнуряемый зноем песчаной пустыни и выходя из терпения от разных дорожных неудобств, которые, ему казалось, легко было устранить, не раз... сопровождал свои жалобы такими жестами, которые в глазах туземцев были доказательством ничтожности грозного сатрапа. * (То есть русского царя.) Это не нравилось Базили... Он упрашивал поэта говорить ему наедине что угодно, но при свидетелях быть осторожным. Гоголь соглашался с ним... но при первой досаде позабывал дружеские условия и обращался в избалованного ребенка. Тогда Базили решился вразумить приятеля самим делом и принял с ним такой тон, как с последним из своих подчиненных. Это заставило поэта молчать, и мусульманам дало почувствовать, что Базили все-таки полновластный визирь "великого падишаха". Единственный след художнических впечатлений Гоголя от этой поездки сохранился в устном его рассказе, записанном Л. И. Арнольди, о природе Палестины (как ее увидел Гоголь на обратном пути от Мертвого моря). Вот этот рассказ Гоголя: "Когда мы оставили море, он (Базили) взял с меня слово, чтоб я не смотрел назад, прежде чем он мне скажет. Четыре часа продолжали мы наше путешествие от самого берега в степях, и точно шли по ровному мосту, а между тем незаметно мы поднимались в гору; я уставал, сердился, но все-таки сдержал слово и ни разу не оглянулся. Наконец Базили остановился и велел мне посмотреть на пройденное нами пространство. Я так и ахнул от удивления! Вообразите себе, что я увидел! На несколько десятков верст тянулась степь все под гору; ни одного деревца, ни одного кустарника, все ровная, широкая степь; у подошвы этой степи, или, лучше сказать - горы, внизу, виделось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору. Не могу вам описать, как хорошо было это море при захождении солнца! Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какой-то фиолетовой жидкостью".  Н. В. Гоголь. Рисунок А. С. Пушкина Да еще вот такие строчки в письмо к Жуковскому: "Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой, в Назарете*, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции". * (В городке, который, по евангельской легенде, считается местом рождения Христа.) О поездке в Иерусалим Гоголь ничего не рассказывал, ссылаясь, что там перебывало много разных путешественников и так много уже написано, и вообще ее любил об этом говорить. Вернулся он в Россию через Одессу в конце апреля 1848 года и по дороге в Москву заехал к родным в Васильевку, а затем в Киев. Дома, по впечатлениям сестры, он казался небывало серьезным, холодным и даже равнодушным к родным. На Украине в это время свирепствовала холера. "Теперь тысячами вокруг болеют и мрут", - писал Гоголь С. Т. Аксакову. |
|
|
