

 |
|
|

Произведения Ссылки |
Петербург (1829 - май 1836)В сей день я только получил ваше письмо с деньгами; около двадцати дней шло оно да более недели пролежало уже здесь на почте, по той причине, что я переменил прежнюю свою квартиру. Вы не ошиблись, почтеннейшая маменька, я точно сильно нуждался в это время, но, впрочем, все это пустое; что за беда просидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли еще будет на жизненном пути, всего понаберешься; знаю только, что если бы втрое, вчетверо, всотеро раз было более нужд, и тогда они бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге. Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег. Несмотря на то, что я отказываюсь почти от всех удовольствий, что уже не франчу платьем, как было дома, имею только пару чистого платья для праздника или выхода и халат для будня; что я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно, - и, несмотря на это все, по расчету менее 120 рублей никогда мне не обходится в месяц. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире, вот я и решился... "Когда наши в поле - не робеют". Но как много еще и от меня закрыто тайною и я нестерпением желаю вздернуть таинственный покров, то в следующем письме извещу вас о удачах или неудачах*. * (Вероятно, эти ожидания были связаны с задуманным изданием поэмы "Ганс Кюхельгартен".) Теперь же расскажу вам слова два о Петербурге. Вы, казалось мне, всегда интересовались знать его и восхищались им. Петербург, вовсе не похож на прочие столицы европейские или на Москву. Каждая столица вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на нее печать национальности, на Петербурге же нет никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев, а русские в свою очередь обиностранились и сделались ни тем ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, всё служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что, поравнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собою, иной приправляет телодвижениями и размашками рук... Дома здесь большие, особливо в главных частях города, но не высоки, большею частию в три и четыре этажа, редко очень бывают в пять, в шесть, только четыре или пять по всей столице, во многих домах находится очень много вывесок. Дом, в котором обретаюсь я*, содержит в себе двух портных, одну маршанд де мод**, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, декатировщика*** и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку, и наконец привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками. * (Дом каретника Иохима на Большой Мещанской улице.) ** (Модистку.) *** (Мастер, производящий декатировку - особый способ отделки ткани перед шитьем, чтобы она не садилась от дождя или стирки.) Я живу на четвертом этаже, но чувствую, что и здесь мне не очень выгодно... Когда еще стоял я вместе с Данилевским, тогда ничего, а теперь очень ощутительно для кармана; что тогда платили пополам, за то самое я плачу теперь один. Но, впрочем, мои работы повернулись, и я, наблюдая внимательно за ними, надеюсь в не долгом времени добыть же что-нибудь; если получу верный и несомненный успех, напишу к вам об этом подробнее.  Невский проспект. Акварель П. С. Иванова по рис. В. С. Садовникова. 1837 г. В Петербурге много гуляний. Зимою прохаживаются все праздношатающиеся от двенадцати до двух часов (в это время служащие заняты) по Невскому проспекту. Весною же, если только это время можно назвать весною, потому что деревья до сих пор еще не оделись зеленью, гуляют в Екатерингофе, Летнем саду и Адмиралтейском бульваре. Все эти, однако ж, гулянья несносны, особливо екатерингофское первое мая: все удовольствие состоит в том, что прогуливающиеся садятся в кареты, которых ряд тянется более нежели на 10 верст, и притом так тесно, что лошадиные морды задней кареты дружески целуются с богато убранными длинными гайдуками*. Эти кареты беспрестанно строятся полицейскими чиновниками и иногда приостанавливаются по целым часам для соблюдения порядка, и все это для того, чтобы объехать кругом Екатерингоф и возвратиться чинным порядком назад, не вставая из карет. И я было направил смиренные стопы свои, но, обхваченный облаком пыли и едва дыша от тесноты, возвратился вспять. В это время Петербург начинает пустеть, все разъезжаются по дачам и деревням на весну и лето. Ночи теперь не продолжаются более часу, летом их совсем не будет, только промежуток между захождением и восхождением солнца бывает занят столкнувшимися двумя зарями, вечернею и утреннею, и не похож ни на вечер, ни на утро. * (Гайдук - здесь: выездной лакей, стоявший на особом месте позади кареты, на "запятках".) Но на первый раз довольно об Петербурге. В другом письме еще я поговорю об нем. Теперь вы, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу в свою очередь сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщить мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как это всё называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты; также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкви одну девку, одетую таким образом. Об этом можно расспросить старожилов; я думаю, Анна Матвеевна или Агафья Матвеевна* много знают кое-чего из давних годов. * (Тетка матери Гоголя.) Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей; об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут, прозвания не вспомню), которого мы видели учредителем свадьб и который знал, по-видимому, всевозможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов, и проч., и проч., и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно. На этот случай, и чтобы вам не было тягостно, великодушная, добрая моя маменька, советую иметь корреспондентов в разных местах нашего повета...* * (То есть уезда. Материалы Гоголь собирал для повестей, которые составили две части "Вечеров на хуторе близ Диканьки".) Нынешние известия письма моего не будут слишком утешительны для вас, почтеннейшая маменька... Мне предлагают место с 1000 рублей жалованья в год. Но за цену ли, едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? и на совершенные пустяки, на что это похоже? в день иметь свободного времени не более, как два часа, а прочее время не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников и проч., в которых мне столько пользы, сколько Елисею Васильевичу Надержинскому* в сухом дереве, на котором нет ни хорошего листу, ни рясных** ветвей. Итак, я стою в раздумьи на жизненном пути, ожидая решения еще некоторым моим ожиданиям. Может быть, на днях откроется место немного выгоднее и благороднее, но признаюсь, ежели и там мне нужно будет употребить столько времени на глупые занятия, то я - слуга покорный. * (Полтавский помещик, сосед Гоголей по имению.) ** (Частых, сильных.) Наконец я принужден снова просить у вас, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществования. Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более, дайте только мне еще несколько времени укорениться здесь, тогда надеюсь как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходимо теперь нужно 300 рублей... В июне 1829 года двадцатилетний Гоголь издал на свои средства под псевдонимом В. Алов поэму "Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах". Для оплаты бумаги и печатания и нужны были ему 300 рублей. В предисловии к поэме говорилось: "Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только Автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности..." На заглавном листе ее было указано: "Писано в 1827 году". Держа свое авторство в глубокой тайне, Гоголь сдал книгу в книжные лавки, а отдельные ее экземпляры роздал знакомым и в журналы для отзыва. Однако в магазинах поэма не раскупалась, знакомые молчали или отзывались о "Ганце" равнодушно, а в журнале "Московский телеграф" Н. Полевой откликнулся насмешкой. За ним отозвалась и газета "Северная пчела": "Свет ничего бы не потерял, если бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом". 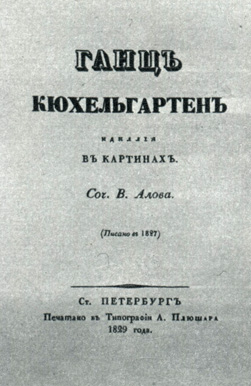 'Ганц Кюхельгартен'. Титульный лист Отзывы подействовали угнетающе; говоря словами самого Гоголя, "им овладела та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которое чувствуется юношей, носящим в душе благородство таланта, которое заставляет если не истреблять, то, по крайней мере, скрывать от света те произведения, в которых он сам видит несовершенство". Вместе со своим слугой Якимом Нимченко бросился он по книжным лавкам, отобрал у книгопродавцев экземпляры, нанял номер гостиницы и сжег все до одного. Хотя юношеская поэма Гоголя была очень несовершенна и несамостоятельна, в ней, в авторском монологе, получили свое отражение раздумья автора о жизни и назначении человека. Благословен тот дивный миг, Когда в поре самопознанья, В поре могучих сил своих Тот, небом избранный, постиг Цель высшую существованья; Когда не грез пустая тень, Когда не славы блеск мишурный Его тревожит ночь и день, Его влекут в мир шумный, бурный; Но мысль и крепка и бодра Его одна объемлет, мучит Желаньем блага и добра; Его трудам великим учит. Для них он жизни не щадит. Вотще безумно чернь кричит: Он тверд средь сих живых обломков. И только слышит, как шумит Благословение потомков. Когда ж коварные мечты Взволнуют жаждой яркой доли, А нет в душе железной воли, Нет сил стоять средь суеты, - Не лучше ль тишине укромной По полю жизни протекать, Семьей довольствоваться скромной И шуму света не внимать? До конца жизни Гоголь никому но открыл, что псевдоним "В. Алов" и поэма "Ганс Кюхельгартен" принадлежали ему. Полный крах с изданием поэмы развеял его мечты о поэтическом призвании. С этими днями крайнего смятения связан труднообъяснимый поступок Гоголя: он вдруг уехал за границу и затем также неожиданно и поспешно вернулся в Петербург, давая всему очень путаные объяснения и истратив на эту поездку деньги, присланные матерью для уплаты процентов за заложенное имение. Настали будни, полные мучительного раскаяния, мелочных забот и поисков работы. В то время (в 1829 г.) я занимал должность секретаря при директоре Императорских театров, князе Сергее Сергеевиче Гагарине... Приказав дежурному капельдинеру просить пришедшего, я увидел молодого человека, весьма непривлекательной наружности, с подвязанною черным платком щекою и в костюме, хотя приличном, но далеко не изящном. Молодой человек поклонился как-то неловко и довольно робко сказал мне, что желает быть представленным директору театров. - Позвольте узнать вашу фамилию? - спросил я. - Гоголь-Яновский. - Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу? - Да, я желаю поступить в театр. В то время имя Гоголя было совершенно неизвестно, и я не мог подозревать, что предо мною стоял, в смиренной роли просителя, будущий творец "Старосветских помещиков", "Тараса Бульбы" и "Мертвых душ". Я попросил его сесть и обождать. Было довольно рано; князь еще пе одевался. Гоголь сел у окна, облокотился па него рукою и стал смотреть на Неву. Он часто морщился, прикладывал другую руку к щеке, и мне казалось, что у него болят зубы. - У вас, кажется, болит зуб? - спросил я. - Не хотите ли одеколону? - Благодарю, это пройдет и так! Помолчав с полчаса, он спросил: - А скоро ли могу я видеть князя? - Полагаю, что скоро. Он еще не одевался. Гоголь замолчал и опять глядел на Неву, барабаня пальцами по стеклу. 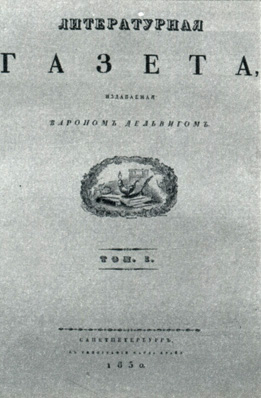 'Литературная газета'. Титульный лист Вышел чиновник Крутицкий, и я попросил его узнать, оделся ли князь. Через минуту он вернулся и сказал, что князь уже в кабинете. Доложив директору, что какой-то Гоголь-Яновский пришел просить об определении его к театру, я ввел Гоголя в кабинет к князю. - Что вам угодно? - спросил князь. Надобно заметить, что князь Гагарин, человек в высшей степени добрый, благородный и приветливый, имел наружность довольно строгую и даже суровую, и тому, кто не знал его близко, внушал всегда какую-то робость. Вероятно, такое же впечатление произвел он и на Гоголя, который, вертя в руках шляпу, запинаясь отвечал: - Я желал бы поступить на сцену и пришел просить ваше сиятельство о принятии меня в число актеров русской труппы. - Ваша фамилия? - Гоголь-Яновский. - Из какого звания? - Дворянин. - Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить. Между тем Гоголь имел время оправиться и отвечал уже не с прежнею робостью: - Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня: мне кажется, что я не гожусь для нее; к тому ж я чувствую призвание к театру. - Играли вы когда-нибудь? - Никогда, ваше сиятельство*. * (Гоголь, видимо, не счел удобным говорить о своих успехах на школьной сцене.) - Не думайте, чтоб актером мог быть всякий: для этого нужен талант. - Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант. - Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить? - Я сам этого теперь еще хорошо не знаю; но полагал бы на драматические роли. Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал: - Ну, господин Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия; впрочем, это ваше дело. Потом, обратись ко мне, прибавил: - Дайте господину Гоголю записку к Александру Ивановичу, чтоб он испытал его и доложил мне. Князь поклонился, и мы вышли. В то время инспектором русской труппы был известный любитель театра Александр Иванович Храповицкий. Он был человек очень добрый, но принадлежал к старой, классической школе. Он сам часто играл в домашних спектаклях, вместе с знаменитой Е. С. Семеновой... считал себя великим знатоком театра и был убежден, что для истинного трагического актера необходимы: протяжное чтение стихов, декламация, дикие завывания и неизбежные всхлипывания, или, как тогда выражались, драматическая икота.  А. С. Пушкин. Акварель П. Ф. Соколова. 1830 г. К этому-то великому знатоку драматического искусства адресовал я бедного Гоголя. Храповицкий назначил день для испытания, кажется, в Большом театре, утром, в репетиционное время. Там заставил он читать Гоголя монологи из "Дмитрия Донского", "Гофолии" и "Андромахи"*, перевода графа Хвостова**. * ("Дмитрий Донской" - трагедия В. А. Озерова. "Гофолия" и "Андромаха" - трагедии французского драматурга Расина.) ** (Дмитрий Иванович Хвостов, граф (1757-1835), - поэт и переводчик, заслуженно имевший репутацию графомана и вызывавший много насмешек.) Я не присутствовал при этом испытании, но потом слышал... что Гоголь читал просто, без всякой декламации; но как чтение это происходило в присутствии некоторых артистов и Гоголь, не зная на память ни одной тирады, читал по тетрадке, то сильно конфузился и действительно читал робко, вяло и с беспрестанными остановками. Разумеется, такое чтение не понравилось, и не могло нравиться Храповицкому, истому поклоннику всякого рода завываний и драматической икоты... Результатом этого испытания было то, что Храповицкий запискою донес князю Гагарину, "что присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только к трагедии или драме, но даже к комедии. Что он, не имея никакого понятия о декламации, даже и по тетради читал очень плохо и нетвердо, что фигура его совершенно неприлична для сцены и в особенности для трагедии, что он не признает в нем решительно никаких способностей для театра..." Гоголь, вероятно, сам чувствовал неуспех своего испытания и не являлся за ответом; тем дело и кончилось. В конце 1829 года Гоголю с большим трудом удалось поступить писцом в один департамент (отдел министерства), а затем - в другой. Прослужил он всего полтора года. Чиновником он был плохим и, по собственным словам, извлек из службы разве ту пользу, что научился сшивать бумагу. Об этом он упоминал не раз, показывая сшитые в тетради письма Пушкина и Жуковского, которыми он очень дорожил. Но в департаментских канцеляриях, в мире чиновников, почерпнул он материал для своих петербургских повестей.  В. А. Жуковский. Акварель К. П. Брюллова. 1838 г. ...Жалованья получаю сущую безделицу. Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку дома для г.г. журналистов, и потому вы не сердитесь, моя великодушная маменька, если я вас часто беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии или что-либо подобное. Это составляет мой хлеб... В столице нельзя пропасть с голоду имеющему хотя скудный от бога талант. Одного только нужно опасаться здесь бедняку - заболеть. Тогда-то уж ему почти нет орасения: источники его доходов прекращаются, издержки на лекарства и лекарей для него совершенно невозможны, и ему остается одно средство - умереть... Как бы хотелось мне хотя на мгновение оторваться от душных стен столицы и подышать хоть на мгновение воздухом деревни! Но неумолимая судьба истребляет даже надежду на то. Как подумаю о будущем лете, теперь даже томительная грусть залегает в душу. Вы помчите, я думаю, как всегда я рвался в это время на вольный воздух, как для меня убийственны были стены даже маленького Нежина. Что же теперь должно происходить в это время, когда столица пуста и мертва, как могила, когда почти живой души не остается в обширных улицах, когда громады домов с вечно раскаленными крышами одне только кидаются в глаза, и ни деревца, ни зелени... ...Литературные мои занятия и участие в журналах я давно оставил, хотя одна из статей* моих доставила мне место, ныне занимаемое. Теперь я собираю материал и в тишине обдумываю свой обширный труд...** Судьба никаким образом не захотела свести меня с высоты моего пятого этажа в низменный домик на каком-нибудь из островов. Необходимости должно повиноваться. Но я всячески стараюсь услаждать свое заключение. Мне советуют делать сколько можно больше движения, и я каждый день почти прогуливаюсь по дачам и прекрасным окрестностям. Нельзя надивиться, как здесь научаешься ходить. Прошлый год, я помню, сделать верст пять в день была для меня большая трудность; теперь же я делаю свободно верст 20 и более и не чувствую никакой усталости. * (Вероятно, повесть "Вечер накануне Ивана Купала", напечатанная в журн. "Отечественные записки".) ** (Роман "Гетьман", оставшийся неоконченным.) ...Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в "Северных Цветах"* отрывок из исторического романа, с подписью ОООО**, также в "Литературной газете" "Мысли о преподавании географии", статью "Женщина" и главу из малороссийской повести "Учитель". Их писал Гоголь-Яновский. Он воспитывался в Нежинском Лицее Безбородки***. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учители****. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих, и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня и трогает и восхищает. * (Альманах, издававшийся поэтом А. А. Дельвигом.) ** (Четыре О - по числу этих букв в имени и фамилии: Николай Гоголь-Яновский.) *** (Нежинский Лицей был основан на средства князя А. А. Безбородко.) **** (В феврале 1831 г. Гоголь уволился со службы в департаменте и поступил преподавателем истории в женский Патриотический институт. Помог ему в этом поэт и критик П. А. Плетнев, бывший в то время инспектором института.) ...между тем занятия мои... совершаются мною в тиши, в моей уединенной комнатке... Я теперь более нежели когда-либо тружусь и более нежели когда-либо весел. Спокойствие в груди моей величайшее. ...В Павловске* жила моя бабушка и с нею вместе - покойная тетка моя Александра Ивановна Васильчикова... Один из сыновей ее (Василий), ныне умерший, к сожалению, родился с поврежденным при рождении черепом, так что умственные его способности остались навсегда в тумане. Все средства истощались, чтобы помочь горю, но все было напрасно. Тетка придумала, наконец, нанять учителя, который бы мог развивать, хотя несколько, мутную понятливость бедного страдальца, показывая ему картинки и беседуя с ним целый день. Такой учитель был найден, и когда я приехал в Павловск <летом 1831 г.>, тетка моя просила меня познакомиться с ним и обласкать его, так как, по словам ее, он тоже был охотником до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывал. Как теперь помню это знакомство. Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая при том их блеянию, мычанию, хрюканью и т. д... При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва раселыхав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей мне его по имени Николай Васильевич Гоголь. * (Одна из летних резиденций царской фамилии и дачное место под Петербургом, соседнее с Царским Селом.) У покойницы моей бабушки, как у всех тогдашних старушек, жили постоянно бедные дворянки, компанионки, приживалки. Им-то по вечерам читал Гоголь свои первые произведения. Вскоре после странного знакомства я шел однажды по коридору и услышал, что кто-то читает в ближней комнате. Я вошел из любопытства и нашел Гоголя посреди дамского домашнего ареопага... Перед ними сидел Гоголь и читал про украинскую ночь. "Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!" Кто не слыхал читавшего Гоголя, тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описывая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами, выси, благоухания, душевного простора. Вдруг он остановился. "Да гопак не так танцуется!" Приживалки вскрикнули: "Отчего не так?" Они подумали, что Гоголь обращался к ним. Гоголь улыбнулся и продолжал монолог пьяного мужика. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен; мне хотелось взять его на руки, вынести его на свежий воздух, на настоящее его место... Карамзины жили тогда в Царском Селе, у них я часто видал Жуковского, который сказал мне, что уже познакомился с Гоголем и думает, как бы освободить его от настоящего места. Пушкина я встретил в Царскосельском парке. На вопрос мой, знает ли он Гоголя, отвечал, что еще не знает, но слышал о нем и желает с ним познакомиться*. * (Гоголь был представлен Пушкину в Петербурге, на вечере у Плетнева в. мае 1831 г., но ближе они познакомились, когда Гоголь летом жил в Павловске и стал бывать у Пушкина и Жуковского в Царском Селе. Оба поэта в это время работали над сказками.) ...Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Стало быть, не был свидетелем времен терроризма, бывших в столице*. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пушкина повесть, октавами писанная: "Кухарка"**, в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные - не то, что "Руслан и Людмила", но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами, и прелесть невообразимая***. У Жуковского тоже русские народные сказки, одне гекзаметрами, другие просто четырехстопными стихами, и чудное дело! - Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский; ничего германского и прежнего. А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут. * (Имеются в виду события июньского холерного бунта в Петербурге.) ** (Поэма Пушкина "Домик в Коломне".) *** (Сказка о попе и о работнике его Балде.) Насилу теперь только управился я с своими делами и получил маленькую оседлость в Петербурге. Но и теперь еще половиною - что я, половиною? - целыми тремя четвертями нахожусь в Павловске и Царском Селе. В Петербурге скучно до нестерпимости. Холера всех разогнала во все стороны... Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило; я к фактору*, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву...** * (Фактор - старший исполнитель типографских работ.) ** (Речь идет о первой части сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки".) ...Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъяснениями фактора. С нетерпением ожидаю и другого - отзывов журналистов... У нас все благополучно: бунтов, наводнения и холеры нет. Жуковский расписался; я чую осень и собираюсь засесть. Ваша Надежда Николаевна, т. е. моя Наталья Николаевна* - благодарит Вас за воспоминание и сердечно кланяется. Обнимите от меня Плетнева и будьте живы в Петербурге, что довольно, кажется, мудрено. * (Гоголь в своем письме к Пушкину по ошибке назвал Наталью Николаевну Надеждой Николаевной.) Сейчас прочел "Вечера близ Диканьки". Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались "Вечера", то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Филдинг*, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на не приличие его выражений, на дурной тон и проч. Пора, пора нам осмеять les precieuses ridicules** нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского. * (Филдинг (1707-1754) - выдающийся английский романист.) ** (Смешных жеманниц (франц.). Пушкин употребляет в качестве крылатого слова название одной из комедий Мольера.) Письмо это, адресованное Пушкиным редактору "Литературных прибавлений" к "Русскому инвалиду" А. Ф. Воейкову, было включено в рецензию Л. Якубовича на книгу Гоголя, став таким образом первым печатным отзывом о первой книге Гоголя. "Отрадно вспомнить, - писал Чернышевский в "Очерках гоголевского периода русской литературы", - что первый оценил Гоголя, первый заговорил о нем печатно тот самый человек, который до Гоголя был величайший из наших писателей. Радушным приветом встретил, благословением своим напутствовал Пушкин двадцатилетнего одинокого юношу, который сделался преемником его славы".  П. А. Плетнев. Портрет работы А. В. Тыранова. 1830-е годы Насилу мог я управиться с своею книгой и теперь только получил экземпляры для отправления вам. Один собственно для вас, другой для Пушкина, третий, с сентиментальной надписью, для Розетти*, а остальные тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга. Три дня я толкался беспрестанно из типографии в Цензурный комитет, из Цензурного комитета в типографию и, наконец, теперь только перевел дух. Боже мой, сколько бы экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, часто думаю себе, появился в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга ночной разбойник и украл этот несносный кусок земли, эти двадцать четыре версты от Петербурга до Царского Села и с ними бы дал тягу на край света или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их вместо завтрака в свой медвежий желудок... Но не такова досадная действительность или существенность: карантины превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? Что э... Но вы не поверите мне, назовете меня суевером... Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся его мимо и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута. Она уже прошла. Это случилось 8-го августа. И к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом: * (Александра Осиповна Россет; в замужестве Смирнова (1809-1882) - в то время фрейлина императрицы; находилась в дружеских отношениях с Жуковским, Пушкиным и Гоголем; очень красивая, умная и образованная женщина.) "...окна мелом Забелены; хозяйки нет, А где? Бог весть, пропал и след...*" * (Из шестой главы "Евгения Онегина".) В 1832 году, кажется весною, когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке, Погодин* привез ко мне в первый раз и совершенно неожиданно Николая Васильевича Гоголя**. "Вечера на хуторе близ Диканьки" были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. Я прочел, впрочем, "Диканьку" нечаянно: я получил ее из книжной лавки, вместе с другими книгами, для чтения вслух моей жене, по случаю ее нездоровья. Можно себе представить нашу радость при таком сюрпризе. Не вдруг узнали мы настоящее имя сочинителя; но Погодин ездил зачем-то в Петербург, узнал там, кто такой был "Рудый Панько", познакомился с ним и привез нам известие, что "Диканьку" написал Гоголь-Яновский. Итак, это имя было уже нам известно и драгоценно... * (Михаил Петрович Погодин (1800-1875) - историк, писатель, профессор Московского университета, впоследствии (с 1841 г.) издатель реакционного журнала "Москвитянин". С Гоголем близко сошелся с первого знакомства в 1832 году, оказал ему много услуг. Но требовал от Гоголя в услугу и из материальных расчетов его участия в журнале "Москвитянин", что приводило к крупным размолвкам. Однако близкие отношения с Погодиным Гоголь сохранил до конца жизни.) ** (Гоголь проезжал через Москву по пути на родину, в Васильевну; он ехал тогда - в самую счастливую пору своей жизни - к родным после трех с половиной лет разлуки.) Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой... К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на днях, как-нибудь поранее утром, и попросит сводить его к Загоскину*, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня... * (Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852) - автор исторических романов и драматург; был директором московских театров.) Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его "Диканьке"; но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни... и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: "Да чем же вы больны?" Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать пе о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что "...даже глупости смешной В тебе не встретишь, свет пустой!"* * (Из седьмой главы "Евгения Онегина".) Но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что "это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его". Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший "Диканьку" и хваливший ее, в то же время не оценил ее вполне; а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами... Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр. и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам с книгами... Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и, наконец, шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел.  М. П. Погодин. Литография "Ну что, - спросил я Загоскина, - как понравился тебе Гоголь?" - "Ах, какой милый, - закричал Загоскин, - милый, скромный, да какой, братец, умница!.." и пр. и пр.; а Гоголь ничего не сказал, кроме самых обиходных, пошлых слов. В этот проезд Гоголя наше знакомство не сделалось близким. Не помню, через сколько времени Гоголь опять был в Москве проездом, на самое короткое время; был у нас и опять попросил меня ехать вместе с ним к Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру; он по-прежнему принял Гоголя очень радушно и любезничал по-своему; а Гоголь держал себя также по-своему, то есть говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. Замечательного ничего не происходило, кроме того, что Загоскин, показывая Гоголю свои раскидные кресла, так прищемил мне обе руки пружинами, что я закричал; а Загоскин оторопел и не вдруг освободил меня из моего тяжкого положения, в котором я был похож на растянутого для пытки человека. От этой потехи руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии, бесчисленными опытами убедился я, что повторение гоголевых слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил, - не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой. И в этот приезд знакомство наше с Гоголем не подвинулось вперед... Как-то не так теперь работается! Не с тем вдохновенно-полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь совершу из Истории, уже вижу собственные недостатки: то жалею, что не взял шире, огромнее объему, то вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эскиз, что оно не нанесет пятна мне, что судья у меня один только будет, и тот один - друг. Но не могу, не в силах... Черт побери пока труд мой, набросанный на бумаге, до другого, спокойнейшего времени. Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души моей так и рвется внаружу. Но я до сих пор не написал ровно ничего. Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: "Владимир 3-ей степени", и сколько злости! смеху! соли!..* Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пиеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой нее мастер понесет на показ народу неоконченное произведение? - Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости! Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за Историю - передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и - история к черту. И вот почему я сижу при лени мыслей. * (Комедия "Владимир 3-ей степени" осталась незаконченной; написанное Гоголь переработал впоследствии в отдельные драматические сцены.) В 1833-1834 годы Гоголь на перепутье. Он в поисках своего места в жизни. Уже будучи автором "Вечеров на хуторе близ Диканьки", он еще не уверен, что художественная литература - его основное дело. И, может быть, больше склоняется стать ученым историком. Он увлекается историей Украины, задумывает написать "Историю малороссийских казаков" и "Всеобщую историю"; изучает специальную литературу, летописи, собирает и исследует народные песни; мечтает получить кафедру всеобщей истории в только что учрежденном Киевском университете, переехать в Киев и навсегда оставить Петербург. Великая, торжественная минута. Боже, как слились и столпились около ней волны различных чувств!.. У ног моих шумит мое прошедшее; надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О, не скрывайся от меня! Пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О, будь блистательно! будь деятельно, всё предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь предо мною, 1834 год?.. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня - о, разбуди меня тогда! не дай им овладеть мною! Пусть твои многоговорящие цифры, как неумолкающие часы, как совесть, стоят передо мною: чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слух мой! чтобы она, как гальванический прут, производила судорожное потрясение во всем моем составе! Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, - этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, с своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр. Там ли? - О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие. чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты!.. Я совершу... Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны... * (Этот лирический набросок, очевидно сделанный под новый, 1834 год или в самом начале его, был найден по смерти Гоголя в его чемодане, который оставался за границей в квартире Жуковского.) Стать профессором истории в Киевском университете Гоголю но удалось; было отдано предпочтение другому кандидату. А "История Малороссии"? "Малороссийская история моя, - писал он Погодину 11 января 1834 года, - чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней слишком уж горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!" Он продолжал работать над ней, перестраивать и перекраивать ее, пока летописные сказы не переплавились в живой, буйно-энергический образ Тараса Бульбы. Эта могучая фигура глубже ученых изысканий сказала, как он понимал старинную жизнь Украины. Больше к работе над историей Украины Гоголь не возвращался, а создавая повесть, он, кстати сказать, ни словом не обмолвился о ней до появления ее в печати. Очевидно, все еще находясь в радостном настроении в связи с окончанием тяжелого труда над "Тарасом Бульбой", Гоголь писал своему земляку М. А. Максимовичу в марте 1835 года, как если бы он сам только что возвратился из Запорожской Сечи: "Мы страшно отдалились от наших первозданных элементов. Мы никак не привыкнем... глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел казак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то черт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость". Гоголь остался в Петербурге и был назначен осенью 1834 года адъюнкт-профессором (младшим профессором) по кафедре всеобщей истории Петербургского университета. Тогда же он задумал написать историю средних веков. Однако, как писал о Гоголе С. Т. Аксаков: "Художническая природа мешала постоянно пассивной деятельности, которая нужна для обогащения себя сведениями. Его понимание истории не могло обратиться в спокойное преподавание". Гоголь читал историю средних веков для студентов 2-го курса филологического отделения. Начал он в сентябре 1834-го, а кончил в конце 1835 года. На первую лекцию он явился в сопровождении инспектора студентов. Это было в два часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с нами и, в ожидании ректора, начал о чем-то говорить с инспектором, стоя у окна. Заметно было, что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то недоверчиво посматривал на нас. Наконец подошел к кафедре и, обратись к нам, начал объяснять, о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжение этой коротенькой речи он постепенно всходил по ступеням кафедры: сперва встал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать? Мне кажется, однако ж, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а просто от слабости нервов, потому что в то время, как лицо его неприятно бледнело и принимало болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совершенно логически и в самых блестящих формах. К концу речи Гоголь стоял уж на самой верхней ступеньке кафедры и заметно одушевился. Вот в эту-то минуту ему и начать бы лекцию, но вдруг вошел ректор... Гоголь должен был оставить на минуту свой пост, который занял так ловко и даже, можно сказать, незаметно для самого себя. Ректор сказал ему несколько приветствий, поздоровался со студентами и занял приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впал в прежнее тревожное состояние: опять лицо его побледнело и приняло болезненное выражение. Но медлить уж было нельзя: он вошел на кафедру, и лекция началась... Не знаю, прошло ли и пять минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории... 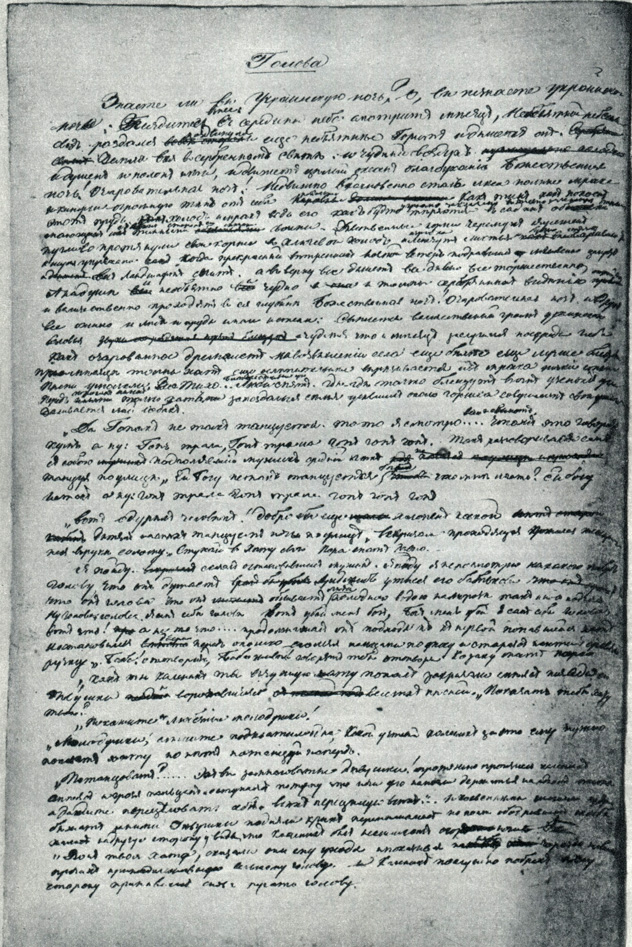 'Майская ночь'. Автограф. Начало второй главы ...Однажды - это было в октябре - ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратись к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь? Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в "Арабесках". Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: "увлекательно"... Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны... Живо помню и последнюю его лекцию: бледное, исхудалое и длинноносое лицо его подвязано было черным платком от зубной боли, и в таком виде фигура его, а притом еще в вицмундире*, производила впечатление бедного угнетенного чиновника, от которого требовали непосильного с его природными дарованиями труда; Гоголь прошел на кафедре как метеор, с блеском оную осветивший и вскоре на оной угасший, но блеск этот был настолько силен, что невольно врезался в юной памяти. * (Так назывался форменный сюртук не военных, а штатских служащих.) ...в Петербурге около Гоголя составился круг его школьных приятелей и новых, молодых знакомых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный характер и наклонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум-трем товарищам своего детства, - "ближайшим людям своим", как он их называл, - Гоголю должен был нравиться и тот откровенный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собою... Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: "Вот, вы как раз поспели". В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: "Ты ступай... Они уже знают свой час, и когда надобно, уйдут". Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в "Записках сумасшедшего". Часто потом случалось мне сидеть и в этой скромной чайной, и в зале... Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в должности его камердинера... Приятели сходились также друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены на вес золота. Гоголь был в этих случаях строгий, нелицеприятный судья и оценщик. На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского, товарища Гоголя по Лицею, человека веселых нравов, некоторые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. ...Точно то же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда. Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9-го мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой кок, облекался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых (Белоусова). Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его "Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем"* - "Это вы говорите, - сказал он, - а другие считают ее фарсом". Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей, никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость - явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных. Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. "Последний день Помпеи" Брюллова** привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца... Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державина. Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия... Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. * (Неточно: "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" была впервые напечатана в 1834 году.) ** (Картина К. П. Брюллова (1799-1852) "Последний день Помпеи" была выставлена в Петербурге в 1834 году. Гоголь написал о ней восторженную статью, которая вошла во вторую часть "Арабесок".) ...Никогда, однако ж, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему, наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способов; сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания; сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благонамеренности... Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского* ружья... В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его "Шинель", и она заронилась в душу его в тот же самый вечер**. Поэтический взгляд на предметы был так свойственен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу... Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностью требований. Но говоря уже о том, что он угадывал по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждает в нем почти такое же отвращение, как труп или скелет, но Гоголь ненавидел идеальничанье в искусстве прежде критиков, возбудивших гонение на него. Он никак не мог приучить себя ни к трескучим драмам Кукольника, которые тогда хвалились в Петербурге, ни к сентиментальным романам г. Полевого***, которые тогда хвалились в Москве. Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости игры в бабки, со всяким специальным человеком, который далее своей специальности и ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки... и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьею и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему. Но, по нашему мнению, важнее всего этого была в Гоголе та мысль, которую он приносил с собой в это время повсюду. Мы говорим об энергическом понимании вреда, производимого пошлостью, ленью, потворством злу, с одной стороны, и грубым самодовольством, кичливостью и ничтожеством моральных оснований - с другой. * (Название иностранной фирмы.) ** (Анекдот был рассказан в 1834 г., работать над повестью Гоголь начал в 1839 г., закончил ее в 1842 г.) *** (Н. А. Полевой (1796-1846) - журналист, критик, беллетрист, историк.) ...В его преследовании темных сторон человеческого существования была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физиономии... Он ненавидел пошлость откровенно и наносил ей удары, к каким только была способна его рука, с единственной целью: потрясти ее, если можно, в основании. Этот род одушевления сказывался тогда во всей его особе, составляя и существенную часть нравственной красоты ее. Честь бескорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращению к извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголем этой эпохи, даже и против него самого, если бы нужно было... ...Но кроме вдохновенных часов, каких Гоголь просил у своего гения, и кроме положительной деятельности, к какой приводило чувство кипящей жизни и силы, он еще, по характеру своему, старался действовать на толпу и внешним своим существованием; он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так, после издания "Вечеров", проезжая через Москву, где, между прочим, он был принят с большим почетом тамошними литераторами, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в "Московские ведомости" не "коллежским регистратором", каковым был, а "коллежским асессором". - Это надо... - говорил он приятелю, его сопровождавшему.  Н. В. Гоголь. Автолитография А. Г. Венецианова. 1834 г. Таким был или, по крайней мере, таким представлялся нам молодой Гоголь. ...Первое, что я прочитал из Гоголя, это была "Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем"... Вот где можно сказать, что новое поколение подняло великого писателя на щитах с первой же минуты его появления. Тогдашний восторг от Гоголя - ни с чем не сравним. Его повсюду читали точно запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще неизвестный никому юмор - все это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительною бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление. Даже любимые гоголевские восклицания: "черт возьми", "к черту", "черт вас знает", и множество других вдруг сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не бывали. Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком. Позже мы стали узнавать и глубокую поэтичность Гоголя, и приходили от нее в такой же восторг, как и от его юмора. Вначале же всех поразил, прежде всего остального, юмор его, с которым нам нельзя было сравнить ничего из всего, до тех пор нам известного. Мы раньше всего купили для нашего класса училища правоведения "Новоселье"*, и тотчас же толстый том был совершенно почти в клочках от беспрерывного употребления... Скоро потом купили два томика "Арабесок". Тут "Невский проспект", "Портрет" нравились нам до бесконечности, и я разделял общий восторг. Не могу теперь сказать - как другие, но что касается до меня лично, то я был в великом восхищении и от исторических статей Гоголя, напечатанных в "Арабесках". "Шлецер, Миллер и Гердер", "Средние века", "Мысли об изучении истории" - все это глубоко поражало меня картинностью и художественностью изложения. Что, кабы нам на этот манер читать историю в классе, думал я сто раз, сравнивая статьи Гоголя с тою мертвечиною, тоской и скукой, какою нас угощали наши учителя под названием "истории", конечно и не подозревая, что у нас есть воображение, потребность жизни и пластичности... * (В этом альманахе, вышедшем в 1834 г., была впервые напечатана "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем".) Повесть "Нос" мне привелось узнать при совершенно исключительных обстоятельствах. Однажды меня оставили в училище в воскресенье в наказанье за какую-то шалость... в классе, где я печально сидел один и немножко сентиментально раскисал, до меня долетел громадный хохот, несшийся из зала. Я долго не вытерпел, выскочил из своего пустынного класса и увидал целую толпу наших правоведов, стоявшую около воспитателя, Алексея Симоновича Андреева, и во все горло дружно хохотавшую от того, что он читал. Я поскорее протеснился вперед, даром что тут большинство было из старших классов, стал жадно слушать, и через две секунды улетели далеко все мои печали, все мое самобичевание, все мои горестные размышления... Недавно только перед тем вышел тот номер "Современника", где напечатан был "Нос", и, даром что сам уже пожилой человек, Андреев разделял восхищение лучшей части России и страстно любил Гоголя. Я не знал в первую минуту, что такое читают, чье это сочинение - спрашивать было некогда, но меня, как и всех, поражала и приводила в безграничный восторг эта изумительная правда, натуральность разговоров, эта неслыханная комичность сцен... Когда все кончилось, я спросил: что такое читали, и чье это? А, так вот кто! Опять Гоголь, тот самый, чьи "Иван Иванович и Иван Никифорович" наше вечное восхищение! Еще бы нам не восторгаться. И мы провели потом блаженно остальное воскресенье. ...Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: "подавай!", сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, - был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. "Как подойти к нему?" - думал Ковалев. "По всему, но мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!" Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. - Милостивый государь... - сказал Ковалев, внутренно при нуждая себя ободриться: - милостивый государь... - Что вам угодно? - отвечал нос, оборотившись. - Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу и где же? - в церкви. Согласитесь... Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить... Объяснитесь. "Как мне ему объяснить?" - подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал: - Конечно я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить губернаторское место... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтырева, статская советница, и другие... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь... (При этом майор Ковалев пожал плечами.) Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...  Петербург. Академия Художеств. Гравюра Ческого - Ничего решительно не понимаю, - отвечал нос. - Изъяснитесь удовлетворительнее. - Милостивый государь... - сказал Ковалев с чувством собственного достоинства: - я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос! Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. - Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству. Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться. По требованию цензуры действие повести Гоголю пришлось перенести из Казанского собора в Гостиный двор. Впоследствии сцена была восстановлена по черновой рукописи. Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Строения другие; лужа среди города давно уже высохла, и все сановники: судья, подсудок и городничий - люди почтенные и благонамеренные. Предисловие это, содержащее насмешку над цензурой, обкорнавшей повесть при первом ее издании, Гоголь поместил, переиздавая повесть в сборнике "Миргород", однако в последнюю минуту оно было снято цензурой. Сохранилось лишь в единственном экземпляре из всех уцелевших книг этого издания. Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением "Вечеров на хуторе": все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предо- ставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал "Арабески", где находится его "Невский проспект", самое полное из его произведений. Вслед за тем явился и "Миргород", где с жадностью все прочли и "Старосветских помещиков", эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и "Тараса Бульбу", коего начало достойно Вальтер Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале. Этот отзыв был помещен в 1-м номере журнала "Современник", который Пушкин начал издавать в 1836 году. Решаюсь писать к вам сам; просил прежде Наталью Николаевну, но до сих пор не получил известия. Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собой, мою комедию*, которой в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств, мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается, по крайней мере, за два месяца прежде. Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро хотя сколько-нибудь главных замечаний. Начал писать "Мертвых душ". Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь. * (Гоголь имеет в виду комедию "Женитьба", над которой он много работал с начала 30-х годов.) Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалованья университетского 600 рублей*, никаких не имею теперь мест. Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее черта. Ради бога. Ум и желудок мой оба голодают. И пришлите "Женитьбу". Обнимаю вас и целую и желаю обнять скорее лично. * (Речь идет о годовом жалованье.) Мои ни Арабески, ни Миргород не идут совершенно. Черт их знает, что это значит. Книгопродавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве. Пушкин рассказал ему <Гоголю> про случай, бывший в г. Устюжине, Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был "Ревизор", коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом. Сюжет "Мертвых душ" тоже сообщен Пушкиным. Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный козак*. Не узнанный я взошел на кафедру, и не узнанный схожу с нее. Но в эти полтора года - годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся, - в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гостьи, наводившие на меня божественные минуты, в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не узнает. Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнитесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч. и проч... Я тебе одному говорю это, другому не скажу я: меня назовут хвастуном, и больше ничего. * (Гоголь был официально уволен ("но случаю преобразования университета") 31 декабря.) Мимо, мимо все это! Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну наконец решаюсь давать на театр...* Скажи... милому Щепкину**, что ему десять ролей в одной комедии, какую хочет, пусть такую берет; даже может разом все играть. Мне очень жаль, что не приготовил ничего к бенефису его. Так я был озабочен это время, что едва успел третьего дня закончить эту пиесу. * (Имеется в виду "Ревизор", написанный в два-три месяца.) ** (Михаил Семенович Щепкип (1788-1863) - артист Малого театра, один из величайших русских актеров-комиков. Осуществил первую постановку "Ревизора" в Малом театре (после первого представления комедии в Петербурге) и был первым исполнителем роли Городничего в Москве.) В 1835 году мы жили на Сенном рынке, в доме Штюрмера. Гоголь между тем успел уже выдать* "Миргород" и "Арабески". Великий талант его оказался в полной силе. Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в "Диканьке", но в "Старосветских помещиках", в "Тарасе Бульбе" уже являлся великий художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином**, моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что, кроме присяжных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте. * (Издать, выпустить в свет.) ** (Старший сын С. Т. Аксакова, Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860), - поэт-переводчик, критик и публицист, один из создателей реакционной теории русских славянофилов. Свой идеал славянофилы видели в допетровской Руси, они отрицали революционный путь исторического развития России, считали возможным достигнуть при царском самодержавии гармонического сочетания интересов власти и народа. В 1842 г. К. С. Аксаков выступил с юношески-восторженной брошюрой по поводу первого тома "Мертвых душ", восприняв это произведение вне какой-либо связи с крепостнической действительностью и увидев в нем лишь возрождение древнего эпоса, лишь "эпическую созерцательность".) В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: "Здравствуйте!" Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Александр Павлович Ефремов*, и Константин шепнул ему на ухо: "Знаешь ли кто у нас? Это Гоголь". Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость... Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова "Гоголь", "Гоголь" разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал... * (Товарищ К. Аксакова по университету, член литературно-философского кружка Станкевича (подробнее о Станкевиче и его кружке - в разделе "Белинский").) Гоголь вез с собою в Петербург комедию, всем известную теперь под именем "Женитьба"; тогда называлась она "Женихи". Он сам вызвался прочесть ее вслух в доме у Погодина для всех знакомых хозяина. Погодин воспользовался этим позволением и назвал столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. И какая досада, я захворал и не мог слышать этого чудного, единственного чтения. К тому же это случилось в мой день*, а мои гости не были приглашены на чтение к Погодину. Разумеется, Константин мой был там. Гоголь до того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою ньесу, что многие, понимающие это дело люди, до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. Я совершенно разделяю это мнение, потому что впоследствии хорошо узнал неподражаемое искусство Гоголя в чтении всего комического. Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно; но, увы, комедия не была принята! Большая часть говорила, что пьеса неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает. * (То есть в постоянный день приема гостей.) ...И в этот приезд Гоголя в Москву не последовало такого сближения между нами, какого я желал... 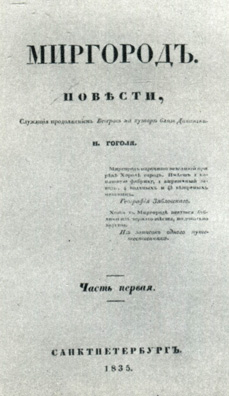 'Миргород'. Титульный лист первого издания В 1835 году до нас дошли слухи из Петербурга, что Гоголь написал комедию "Ревизор", что в этой пьесе явился талант его, как писателя драматического, в новом и глубоком значении. Говорили, что эту пьесу никакая бы цензура не пропустила, но что государь приказал ее напечатать и дать на театре*. На сцене комедия имела огромный успех, но в то же время много наделала врагов Гоголю. Самые злонамеренные толки раздавались в высшем чиновничьем кругу... В то же время узнали мы, что сам Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то в Петербурге, распродал с уступкой все оставшиеся экземпляры "Ревизора" и других своих сочинений и сбирается немедленно ехать за границу... * (Николай I даже заставлял своих министров ездить смотреть "Ревизора". Видимо, царь воспринял комедию больше как забавный фарс, не поняв всего ее сатирического, разоблачительного смысла. Как передает Герцен, царь даже "помирал со смеху" на первом представлении "Ревизора". "О ирония, святая ирония, приди, я поклонюсь тебе!" - воскликнул Герцен по этому поводу.) Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать - что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, - большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: "Это - невозможность, клевета и фарс..." "Комедия была признана многими либеральным заявлением... признана за какой-то политический брандскугель*, брошенный в общество под видом комедии... Одни приветствовали ее, радовались ей, как смелому, хотя и прикрытому нападению на предержащие власти. По их мнению, Гоголь, выбрав полем битвы своей уездный городок, метил выше... С этой точки зрения, другие, разумеется, смотрели на комедию как на государственное покушение: были им взволнованы, напуганы и в несчастном или счастливом комике видели едва ли не опасного бунтовщика. * (Так назывались пушечные зажигательные ядра.) Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то город, в который свалил все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь: сколько накопил плутней, подлостей, невежества. Я знаю господина автора: это юная Россия во всей своей наглости и цинизме. ...Действие, произведенное ею пьесою "Ревизор", было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины - и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне больше и лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит между тем братской любовью. ...Я хотел бы ехать непременно в Москву и с тобой наговориться вдоволь. Но не так сделалось. Чувствую, что теперь не доставит мне Москва спокойствия, а я не хочу приехать в таком тревожном состоянии, в каком нахожусь ныне. Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно и грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими всё принимается, частное принимается за общее, случай за правило. Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов - тысяча честных людей сердится, - говорит: мы не плуты. Но бог с ними. Я не оттого еду за границу, чтобы не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровье, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постояннее пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с большим размышлением. Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь. Если удастся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе... Помимо враждебных толков о комедии, Гоголь был огорчен самим воплощением ее на петербургской сцене, в особенности исполнением роли Хлестакова. Это чувство он выразил в набросках письма Пушкину, который в день постановки "Ревизора" был в деревне (он ездил в Михайловское хоронить мать) и не мог присутствовать на спектакле. Пушкин собирался писать критический разбор комедии для своего журнала, просил уведомить его, как она исполнена на сцене. Письмо не было отправлено, так как Пушкин скоро приехал сам. В 1840-1841 годах Гоголь переработал письмо и под заглавием "Отрывок из письма, писанного автором вскоре после представления "Ревизора" к одному литератору", напечатал приложением ко 2-му изданию комедии, сохранив первоначальную дату. ...Ревизор сыгран - и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала; так я и думал... Хлестаков сделался... чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться с парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем, - бледное лицо, в продолжении двух столетий являющееся в одном и том же костюме. Неужели в самом деле не видно из самой роли, что такое Хлестаков? Или мною овладела довременно слепая гордость, и силы мои совладать с этим характером были так слабы, что даже и тени, и намека в нем не осталось для актера? А мне он казался ясным...  'Арабески'. Титульный лист первого издания Далее Гоголь дает подробные указания для актерского исполнения роли Хлестакова и других ролей "Ревизора". Необыкновенно интересно и широко толкуя образ Хлестакова, он дальше пишет: Что такое, если разобрать, в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. Выставить эти качества в людях, которые не лишены, между прочим, хороших достоинств, было бы грехом со стороны писателя, ибо он тем поднял бы их на всеобщий смех. Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли, и в то же время осмотрится вокруг без боязни и страха, чтобы не указал кто-нибудь на него пальцем и не назвал бы его по имени. Словом, это лицо должно быть типом многого, разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадаются и в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться; он любит даже и посмеяться над этим фактом, конечно, в коже другого, а не в собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко, кто им не будет хоть раз в жизни, - дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернется, и как будто бы и не он. Итак, неужели в моем Хлестакове не видно ничего этого? Неужели он - просто бледное лицо, а я, в порыве минутно-горделивого расположения думал, что когда-нибудь актер обширного таланта возблагодарит меня за совокупление в одном лице стольких разнородных движений, дающих ему возможность вдруг показать все разнообразные стороны своего таланта. И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно. С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех, бывших в театре, я боялся, - и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие... Еще раз повторяю, - тоска, тоска!.. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми! мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие, далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как бог знает чего. Ради бога, приезжайте скорее. Я не поеду, не простившись с вами. Мне еще нужно много сказать вам того, что не в силах сказать несносное, холодное письмо... Гоголь выехал из Петербурга за границу 6 июня; ехал он морем, через Гамбург, вместе со своим другом А. С. Данилевским. Проститься с Пушкиным перед отъездом ему не довелось. |
|
|
