

 |
|
|

Произведения Ссылки |
Последние годы в России (август 1848 - 21 февраля 1852)Когда Гоголь приехал из Малороссии в Москву (в сентябре 1848 г.), я был в деревне и только в октябре переселился в город. В тот же вечер пришел к нам Гоголь, и мы увиделись с ним после шестилетней разлуки, В непродолжительном времени восстановились между нами прежние, как бы прерванные, нарушенные продолжительною разлукою отношения, но о его книге <"Выбранные места из переписки с друзьями"> и втором томе "Мертвых душ" не было и помину. Гоголь в эту зиму прочел нам всю Одиссею, переведенпую Жуковским... Часто также читал вслух Гоголь Русские песни, собранные г. Терещенко*, и нередко приходил в совершенный восторг, особенно от свадебных песен. Гоголь всегда любил читать, но должно сказать, что он читал с неподражаемым совершенством только все комическое в прозе, или, пожалуй, чувствительное, но одетое формою юмора; всё же чисто патетическое, как говорится, и лирическое Гоголь читал нараспев. Он хотел, чтобы ни один звук стиха не терял своей музыкальности, и, привыкнув к его чтению, можно было чувствовать силу и гармонию стиха. Из писем его к друзьям видно, что он работал в это время неуспешно и жаловался на свое нравственное состояние. Я же думал, напротив, что труд его подвигается вперед хорошо, потому что сам он был довольно весел и читал всегда с большим удовольствием. Я в этом, как вижу теперь, ошибался; но вот что верно: я никогда не видал Гоголя таким здоровым, крепким и бодрым физически, как в эту зиму, т. е. в ноябре и декабре 1848 и в январе и феврале 1849 г. * (Это была книга А. С. Терещенко "Быт русского народа", 4 тома, СПБ, 1848 г.) ...Гоголь изъявил желание А. А. Комарову* приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он не был знаком. А. А. пригласил между прочим Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем. Я познакомился с ним летом 1839 года в Москве, в доме Сергея Тимофеевича Аксакова. В день моего знакомства с ним он обедал у Аксаковых и в первый раз читал первую главу своих "Мертвых душ". Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением. Он благоговел перед его талантом. Мы все также разделяли его нетерпение. В ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов, но Гоголь не показывался и мы сели к чайному столу без него. * (В сентябре-октябре месяцах Гоголь побывал в Петербурге у Александра Александровича Комарова (ум. 1874 г.), преподавателя русской словесности в кадетском корпусе и поэта. Здесь собирался кружок петербургских литераторов, в котором часто бывал, по переезде в Петербург, Белинский; посещал этот кружок и Гоголь. С А. А. Комаровым был в близких отношениях друг Гоголя Н. Я. Прокопович.) Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространял вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях; хотя было очень заметно, что не читал их*. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые "Письма" писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами. * (К тому времени И. А. Гончаров опубликовал "Обыкновенную историю"; Д. В. Григорович - "Деревню", "Антона Горемыку"; Некрасов - такие стихотворения, как "В дороге", "Тройка", "Псовая охота", "Еду ли ночью"; А. В. Дружинин - нашумевшую повесть "Полипька Сакс".) Москва уединенна, покойна и благоприятна занятиям. Я еще не тружусь так, как бы хотел, чувствуется некоторая слабость, еще нет этого благодатного расположения духа, какое нужно для того, чтобы творить. Но душа кое-что чует и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного времени. Напишите мне несколько строчек о ваших занятиях и состоянии духа вашего. Я любопытен знать, как начались у вас русские лекции. Покуда я еще не присылаю вам списка книг, долженствующих составить русское чтение в историческом отношении. Нужно мне обнять и рассмотреть предварительно, чтобы уметь подать вам одно за другим в порядке, чтобы не очутился суп после соуса и пирожное прежде жаркого.  Н. В. Гоголь в Риме, на вилле З. А. Волконской. Рисунок В. А. Жуковского ...мне хотелось бы сильно, чтобы наши лекции с вами начались вместе со вторым томом "Мертвых душ". После их легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом. Много сторон русской жизни еще доселе не обнаружено ни одним писателем. Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: "он знает точно русского человека: не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство". Хотелось бы также заговорить о том, о чем еще со дня младенчества любила задумываться моя душа, о чем неясные звуки и намеки были уже рассеяны в самых первоначальных моих сочинениях. Их не всякий заметил. С семьей графа М. Ю. Вьельгорского - близкого ко двору сановника, талантливого музыканта и композитора, одного из друзей Пушкина - Гоголь встречался в Петербурге и затем за границей и был в дружеских отношениях, правда, не до конца искренних со стороны жены графа. В особенности близок был Гоголь с младшей дочерью Вьельгорских - Анной Михайловной; еще в 1847 году Гоголь писал из Неаполя Плетневу в Петербург: "Я тебе особенно советую познакомиться с Анной Михайловной Вьельгорской. У нее есть то, чего я не знаю ни у одной из женщин: не ум, а разум; но ее не скоро узнаешь: она вся внутри". (Семья Вьельгорских к тому времени уже вернулась из-за границы.) Писатель граф В. А. Соллогуб (он был женат на сестре А. М.) в своих воспоминаниях отметил: "Анна Михайловна, кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь". После возвращения на родину Гоголь встретился с Вьельгорской во вромя поездки в Петербург. 6 письмах к А. М. Гоголь дает другу советы, наставления, касающиеся главным образом самовоспитания. Занятия с А. М. по литературе вел уже упомянутый Соллогуб. Гоголь предполагал дополнить их и руководить ее занятиями по русской истории. Соображаю, думаю и обдумываю второй том "Мертвых душ". Читаю преимущественно то, где слышится сильнее присутствие русского духа. Прежде чем примусь серьезно за перо, хочу назвучиться русскими звуками и речью. Боюсь нагрешить противу языка. Гоголь жил тогда (с 1849 г.) у графа Толстого* в д. Талызина на Никитском бульваре, поблизости от Арбатских ворот**. Из его разговоров мне особенно памятно следующее. Он жаловался, что слишком мало знает Россию... Он решил просить всех своих приятелей, знакомых с разными краями России или еще собирающимися в путь, сообщать ему свои наблюдения по этому предмету... Но любознательность Гоголя не ограничивалась узнать Россию со стороны быта и нравов. Он желал изучить ее во всех отношениях... Живя за границей, он пе переставал читать книги, которые казались ему пособиями для этого. И что же читал он для своего назидания, с особенным вниманием? "Россию" Булгарина! * (Александр Петрович Толстой (1801-1874) - граф, видный царский чиновник, святоша и ханжа, который со времени знакомства с Гоголем за границей всячески поддерживал и развивал в нем религиозно-мистические настроения. Впоследствии А. П. Толстой был обер-прокурором Святейшего синода (так назывался представитель царской власти в высшем органе церковного управления - синоде).) ** (Теперь: Гоголевский бульвар, д. 7.) Книга эта, известная в то время под названием "Россия" Булгарина и вызвавшая недоумение у Грота как якобы недостойная внимания Гоголя, в действительности принадлежала перу молодого историка Н. А. Иванова, который по бедности вынужден был продать ее для издания Ф. Булгарину, и тот присвоил себе авторство. Полное ее название - "Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношении".  Н. В. Гоголь. Набросок А. Иванова. 1841 г. Я жил тогда в Москве: сестра моя приехала из Калуги* и остановилась в гостинице Дрезден. При первом же свидании она объявила мне, что Гоголь здесь и в шесть часов вечера будет к ней. Я, разумеется, остался обедать и ждал Гоголя с нетерпением. Ровно в шесть часов вошел в комнату человек маленького роста, с длинными белокурыми волосами, причесанными a la moujik <по-мужичьи>, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь! Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одною рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса. Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление. Сестра моя познакомила нас, и Гоголь дружески обнял меня, сказав сестре: "Ну теперь я знаком, кажется, со всеми вашими братьями; это, кажется, самый младший". Действительно, я был младший. Мы сели вокруг стола; разговор завязался о здоровьи: Гоголь внимательно расспрашивал сестру о ее положении, давал какие-то советы и но сказал ничего замечательного. Вечером я проводил его домой; нам было по дороге... Гоголь говорил со мною о моей службе и советовал не брать видных мест. "На них всегда найдутся охотники, - прибавил он, - а вы возьмите должность скромную, не блестящую, и постарайтесь быть именно в этой должности полезным; тогда вы увидите, как будет вам весело на душе". * (Автор воспоминаний Л. И. Арнольди был сводпым братом уже известной читателям А. О. Смириовой-Россет; муж Смирновой был в это время калужским губернатором.) Я отвечал, что надеюсь скоро быть советником в губернском правлении. "Вот и хорошо, - отвечал Гоголь, - тут работы будет много и пользу принести можно; это не то что франты чиновники по особым поручениям или служба министерская; очень, очень рад за вас и душевно поздравляю вас, когда получите это место". Меньше, чем когда-либо прежде, я развлечен; более, чем когда-либо, веду жизнь уединенную, при всем том никогда так мало не делал, как теперь. Я не в силах бываю писать, отвечать на письма, исполнять всех тех обязанностей, которых исполнение приносило прежде удовольствие душе моей. Вот тебе в коротких словах вся моя душевная история... Я собираюсь в дорогу; располагаю посетить губернии в окружности Москвы... и поглядеть Русь, сколько ее можно увидеть на большой дороге. Где проведу зиму, не знаю. ...сестра* моя уехала в свою калужскую деревню, и Гоголь дал ей слово приехать погостить к ней на целый месяц. Я собирался тоже туда, и мы сговорились с ним ехать вместе... Когда наступил день отъезда, Гоголь приехал ко мне с своим маленьким чемоданом и большим портфелем. Этот знаменитый портфель заключал в себе второй том "Мертвых душ", тогда уже почти конченных вчерне. * (Л. О. Смирнова-Россет.) Мог ли думать Гоголь, что никто не прочтет того, над чем он в то время так бодро трудился, что та же участь, какая постигла первый второй том, ожидает и эти разрозненные листы, тщательно от всех скрываемые до времени. Портфеля не покидал Гоголь во всю дорогу. На станциях он брал его в комнаты, а в тарантасе ставил всегда подле себя и опирался на него рукою... Я взял с собой в Калугу одного француза вместо камердинера, предоброго малого, но до чрезвычайности тупого и глупого. Он никогда не выезжал из Москвы, и кроме того, будучи слабого здоровья, с великим удовольствием отправился со мной, чтобы подышать деревенским воздухом. Наконец в пять часов вечера мы уселись с Гоголем в тарантас, француз взобрался на козлы, ямщик стегнул лошадей, и все пошло плясать и подпрыгивать на мостовой до самой Серпуховской заставы. Француз, не привыкший к такому экипажу, беспрестанно вскрикивал, держась за бока, и ругался на чем свет стоит. Мы только и слышали: SacristieL Diable de tarantasse! (Черт возьми!.. Дьявольский тарантас!; франц.) Гоголь смеялся от души и при всяком новом толчке все приговаривал: "Ну еще!.. Ну, хорошенько его, хорошенько... вот так!.. А что, француз, будешь помнить тарантас?" Ямщика тоже забавлял гнев моего француза, и он не только не сдерживал лошадей, но как нарочно ехал крупною рысью через весь город. Наконец потянулось перед нами прямое, как вытянутая лента, шоссе, и мы поскакали, качаясь, как в люльке, в нашем легком тарантасе. Даже французу понравилась такая шибкая езда, и он, закурив сигару, беспрестанно поворачивался к нам и как-то весело улыбался, причем называл Гоголя - M-r Gogo. Я несколько раз поправлял его, но он извинялся и через пять минут опять называл его так же. В продолжение всего месяца, пока мы оставались в Калуге, он никак не мог запомнить, что Гоголя зовут Гоголь, а не Gogo. Так ехали мы до Малоярославца. Гоголь много беседовал со мной; мы говорили о русской литературе, о Пушкине, в котором он любил удивительно доброго и снисходительного человека и умного, великого поэта. Говорили о Языкове, о Баратынском. Гоголь превосходно прочел мне два стихотворения Языкова: "Землетрясение" и другое. По его мнению, "Землетрясение" было лучшее русское стихотворение. Потом говорил Гоголь о Малороссии, о характере малороссиянина и так развеселился, что стал рассказывать анекдоты, один другого забавнее и остроумнее... Мы много смеялись. Гоголь был в духе, беспрестанно снимал свою круглую серую шляпу, скидывал свой зеленый камлотовый* плащ и, казалось, вполне наслаждался чудным, теплым вечером, вдыхая в себя свежий воздух полей. Наконец, когда совершенно стемнело, мы оба задремали и проснулись только в двенадцать часов утра от солнечных лучей, которые стали сильно жарить лица наши. Малоярославец был уже в виду. Вдруг ямщик остановился, передал вожжи французу и соскочил с козел. "Что случилось?" - спросил я. "Тарантас сломался, - отвечал хладнокровно ямщик, заглядывая под тарантас, - Одна дрога треснула, да заднее колесо не совсем-то здорово... не доедешь, барин, здесь чинить надоть!.." Экая досада, а мы хотели поспеть вечером в деревню; но делать было нечего, надо было кое-как доехать до станции, и мы шажком поплелись по скверной городской мостовой. Когда тарантас наш остановился перед станционным домом, толпа ямщиков с любопытством окружила его, и каждый почел долгом осмотреть дрогу, заднее колесо, а потом сказать свое мнение. Гоголь тоже очень внимательно рассматривал экипаж. * (Из суровой шерстяной ткани.) В это время я заметил вдали какие-то дрожки и на них человека в военной шинели. Узнав от станционного смотрителя, что это городничий, я вспомнил, что знал его прежде, когда служил в Калуге, а потому знаками стал просить его подъехать к нам. Он был так любезен, что велел кучеру ехать в нашу сторону. Я пошел к нему навстречу и, объяснив наше положение, просил помочь нам своим влиянием. Городничий, барон Э., кликнул ямщиков, послал за кузнецами, условился в цене и велел, чтобы все было готово через час. Успокоив меня таким образом, он вдруг спросил меня совсем неожиданно: "Позвольте узнать, кто едет с вами в серой шляпе?" - "Гоголь", - отвечал я. "Какой Гоголь? - вскрикнул городничий. - Уж не писатель ли Гоголь, сочинивший "Ревизора"? - "Он самый", - "Ах, сделайте одолжение, познакомьте меня с ним: я много уважаю этого сочинителя, читал все его сочинения, и был бы совершенно счастлив, если бы мог поговорить с ним". Я знал странный характер Гоголя, не любившего никаких новых знакомств, и потому боялся, что он после будет сердиться на меня, если я представлю ему городничего; но отказать любезному майору в такой пустой вещи за все его хлопоты не было возможности, и я повел его прямо к Гоголю. "Николай Васильевич, позвольте вам представить начальника здешнего города барона Э., по милости которого мы еще можем поспеть сегодня в деревню". К моему удивлению, Гоголь весьма любезно поклонился майору и протянул ему руку, прибавив: "Очень рад с вами познакомиться". - "А я совершенно счастлив, что вижу нашего знаменитого писателя, - отвечал городничий, - давно желал где-нибудь вас увидеть; читал все ваши сочинения и "Мертвые души", но в особенности люблю "Ревизора", где вы так верно описали нашего брата городничего. Да, встречаются до сих пор еще... встречаются такие городничие". Гоголь улыбнулся и тотчас переменил разговор: - Вы давно здесь? - Нет, только полтора года. - А городок, кажется, порядочный? - Помилуйте, прескверный городишка, скука смертная, общества никакого! - Ну, а кроме чиновников, живут ли здесь помещики? - Есть, но немного, всего три семейства, но от них никакого прока, все между собой в ссоре. - Отчего это, за что поссорились? Тут я оставил Гоголя с городничим и пошел на станцию. Через четверть часа я застал их еще на том же месте. Гоголь говорил с ним уже о купцах и внимательно расспрашивал, кто именно и чем торгует, где сбывает свои товары, каким промыслом занимаются крестьяне в уезде; бывают ли в городе ярмарки и тому подобное. Я перебил их живой разговор предложением Гоголю позавтракать. Услыхав это, городничий стал извиняться, что уже отобедал, и потому жалеет, что не может нас просить к себе; но кликнув будочника, послал его вперед в трактир, приготовить нам особенную комнату и обед, а сам пошел провожать нас. Гоголь впился в моего городничего, как пиявка, и не уставал расспрашивать его обо всем, что его занимало. У трактира городничий с нами раскланялся. На сцену явился половой и бойко повел нас по лестнице в особый нумер. Гоголь стал заказывать обед, выдумал какое-то новое блюдо из ягод, муки, сливок и еще чего-то, помню только, что оно вовсе не было вкусно. Покуда мы обедали, он все время разговаривал с половым, расспрашивал его, откуда он, сколько получает жалованья, где его родители, кто чаще других заходит к ним в трактир, какое кушанье больше любят чиновники в Малоярославце и какую водку употребляют, хорош ли у них городничий и тому подобное. Расспросил о всех живущих в городе и близ города и остался очень доволен остроумными ответами бойкого парня в белой рубашке, который лукаво улыбался, сплетничал на славу и, как я полагаю, намеренно отвечал всякий раз так, чтобы вызвать Гоголя на новые расспросы и шутки. Наконец, ровно через час, тарантас подкатил к крыльцу, и мы, простившись с шоссе, поехали уже по большой калужской дороге. Гоголь продолжал быть в духе, восхищался свежею зеленью деревьев, безоблачным небом, запахом полевых цветов и всеми прелестями деревни. Мы ехали довольно тихо, а он беспрестанно останавливал кучера, выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок; потом садился, рассказывал мне довольно подробно, какого он класса, рода, какое его лечебное свойство, как называется он по-латыни и как называют его наши крестьяне. Окончив трактат о цветке, он втыкал его перед собой за козлами тарантаса и через пять минут опять бежал за другим цветком, опять объяснял мне его качества, происхождение и ставил на то же место. Таким образом, через час с небольшим образовался у нас в тарантасе целый цветник желтых, лиловых, розовых цветов. Гоголь признался, что всегда любил ботанику и в особенности любил знать свойства, качества растений и доискиваться, под какими именами эти растения известны в народе и на что им употребляются. "Терпеть не могу, прибавил он, эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых пробных. Я всегда читаю те старинные ботаники и русские и иностранный, которые теперь уже не в моде, а которые между тем сто раз лучше объясняют вам дело..."  Н. В. Гоголь. Портрет работы Ф. Моллера. 1841 г. Через неделю с небольшим после нашего приезда в Калугу в одно утро я захотел войти к сестре моей в кабинет; но мне сказали, что там Гоголь читает свои сочинения и что сестра просила, по желанию Гоголя, никого не впускать к ней. Постояв у дверей, я действительно услыхал чтение Гоголя. Оно продолжалось до обеда. Вечером сестра рассказывала мне, что Гоголь прочел ей несколько глав из второго тома "Мертвых душ" и что все им прочитанное было превосходно. Я, разумеется, просил ее уговорить Гоголя допустить и меня к слушанию; он сейчас же согласился, и на другой день мы собрались для этого в одиннадцать часов утра, на балконе, уставленном цветами. Сестра села за пяльцы, я покойно поместился в кресле против Гоголя, и он начал читать нам сначала ту первую главу второго тома, которая вышла в свет после его смерти уже. Сколько мне помнится, она начиналась иначе и, вообще, была лучше обработана, хотя содержание было то же. Хохотом генерала Бетрищева оканчивалась эта глава, а за нею следовала другая, в которой описан весь день в генеральском доме. Чичиков остался обедать. К столу явились, кроме Уленьки, еще два лица: англичанка, исправлявшая при ней должность гувернантки, и какой-то испанец или португалец, проживавший у Бетрищева в деревне с незапамятных времен и неизвестно для какой надобности. Первая была девица средних лет, существо бесцветное, некрасивой наружности, с большим тонким носом и необыкновенно быстрыми глазами. Она держалась прямо, молчала по целым дням, и только беспрерывно вертела глазами в разные стороны с глупо-вопросительным взглядом. Португалец, сколько я помню, назывался Экспантон, Эситендон, или что-то в этом роде; но помню твердо, что вся дворня генерала называла его просто - Эскадрон. Он тоже постоянно молчал, но после обеда должен был играть с генералом в шахматы. За обедом не произошло ничего необыкновенного. Генерал был весел и шутил с Чичиковым, который ел с большим аппетитом; Уленька была задумчива; и лицо ее оживлялось только тогда, когда упоминали о Тентетникове. После обеда генерал сел играть с испанцем в шахматы и, подвигая шашки вперед, беспрерывно повторял: "полюби нас беленькими..." "Черненькими, ваше превосходительство", перебивал его Чичиков. "Да, повторял генерал, полюби нас черненькими, а беленькими нас сам господь бог полюбит". Через пять минут он опять ошибался и начинал опять: "полюби нас беленькими", и опять Чичиков поправлял его, и опять генерал, смеясь, повторял: "полюби нас черненькими, а беленькими нас сам господь бог полюбит". После нескольких партий с испанцем генерал предложил Чичикову сыграть одну или две партии, и тут Чичиков выказал необыкновенную ловкость. Он играл очень хорошо, затруднял генерала своими ходами, и кончил тем, что проиграл; генерал был очень доволен тем, что победил такого сильного игрока, и еще более полюбил за это Чичикова. Прощаясь с ним, он просил его возвратиться скорее и привести с собою Тентетникова. Приехав к Тентетникову в деревню, Чичиков рассказывает ему, как грустна Уленька, как жалеет генерал, что его не видит, что генерал совершенно раскаивается и, чтобы кончить недоразумение, намерен сам первый к нему приехать с визитом и просить у него прощения. Все это Чичиков выдумал. Но Тентетников, влюбленный в Уленьку, разумеется, радуется предлогу и говорит, что если все это так, то он не допустит генерала до этого, а сам завтра же готов ехать, чтобы предупредить его визит. Чичиков это одобряет, и они условливаются ехать вместе на другой день к генералу Бетршцеву. Вечером того же дня Чичиков признается Тентетникову, что соврал, рассказав Бетрищеву, что будто бы Тентетников пишет историю о генералах. Тот не понимает, зачем это Чичиков выдумал, и не знает, что ему делать, если генерал заговорит с ним об этой истории. Чичиков объясняет, что и сам не знает, как это у него сорвалось с языка; но что дело уже сделано, а потому убедительно его просит, ежели он не намерен лгать, то чтобы ничего не говорил, а только бы не отказывался решительно от этой истории, чтоб его не скомпрометировать перед генералом. За этим следует поездка их в деревню генерала: встреча Тентетникова с Бетрищевым, с Уленькой и наконец обед. Описание этого обеда, по моему мнению, было лучшее место второго тома. Генерал сидел посредине, по правую его руку Тентетников, по левую Чичиков, подле Чичикова Уленька, подле Тентетникова испанец, а между испанцем и Уленькой англичанка; все казались довольны и веселы. Генерал был доволен, что помирился с Тентетниковым и что мог поболтать с человеком, который пишет историю отечественных генералов; Тентетников тем, что почти против него сидела Уленька, с которою он по временам встречался взглядами; Уленька была счастлива тем, что тот, кого она любила, опять с ними, и что отец опять с ним в хороших отношениях, и наконец Чичиков был доволен своим положением примирителя в этой знатной и богатой семье. Англичанка свободно вращала глазами, испанец глядел в тарелку и поднимал свои глаза только тогда, как вносили новое блюдо. Приметив лучший кусок, он не спускал с него глаз во все время, покуда блюдо обходило кругом стола или покуда лакомый кусок не попадал к кому-нибудь на тарелку. После второго блюда генерал заговорил с Тентетниковым о его сочинении и коснулся 12-го года. Чичиков струхнул и со вниманием ждал ответа. Тентетников ловко вывернулся. Он отвечал, что не его дело писать историю кампании, отдельных сражений и отдельных личностей, игравших роль в этой войне, что не этими геройскими подвигами замечателен 12-й год, что много было историков этого времени и без него; но что надобно взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно по его мнению то, что весь народ встал как один человек в защиту отечества; что все расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; важно, как все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, как каждый спешил отдать последнее свое достояние и жертвовал всем для опасения общего дела; вот что важно в этой войне, и вот что желал он описать в одной яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов и высоких, но тайных жертв! Тентетников говорил довольно долго и с увлечением, весь проникнулся в эту минуту чувством любви к России. Бетрищев слушал его с восторгом, и в первый раз такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, как бриллиант чистейшей воды, повисла на седых усах. Генерал был прекрасен; а Уленька? Она вся впилась глазами в Тентетникова, она, казалось, ловила с жадностью каждое его слово, она, как музыкой, упивалась его речами, она любила его, она гордилась им! Испанец еще более потупился в тарелку, англичанка с глупым видом оглядывала всех, ничего не понимая. Когда Тентетников кончил, водворилась тишина, все были взволнованы... Чичиков, желая поместить и свое слово, первый прервал молчание: "Да, сказал он, страшные холода были в 12-м году!" - "Не о холодах тут речь", заметил генерал, взглянув на него строго. Чичиков сконфузился. Генерал протянул руку Тентетникову и дружески благодарил его; но Тентетников был совершенно счастлив уже тем, что в глазах Уленьки прочел себе одобрение. История о генералах была забыта. День прошел тихо и приятно для всех. - После этого, я не помню порядка, в котором следовали главы; помню, что после этого дня Уленька решилась говорить с отцом своим серьезно о Тентетникове. Перед этим решительным разговором, вечером, она ходила на могилу матери и в молитве искала подкрепления своей решимости. После молитвы вышла она к отцу в кабинет, стала перед ним на колени и просила его согласия и благословения на брак с Тентетниковым. Генерал долго колебался и наконец согласился. Был призван Тентетников, и ему объявили о согласии генерала. Это было через несколько дней после мировой. Получив согласие, Тентетников, вне себя от счастия, оставил на минуту Уленьку и выбежал в сад. Ему нужно было остаться одному, с самим собою: счастье его душило!.. Тут у Гоголя были две чудные лирические страницы. - В жаркий летний день, в самый полдень, Тентетников - в густом, тенистом саду, и кругом его мертвая, глубокая тишина. Мастерскою кистью описан был этот сад, каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве, и все насекомые, и наконец все то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый! - Я живо помню, что это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание. Гоголь читал превосходно! В избытке чувств, от полноты счастья, Тентетников плакал, и тут же поклялся посвятить всю свою жизнь своей невесте. В эту минуту в конце аллеи показывается Чичиков. Тентетников бросается к нему на шею и благодарит его. "Вы мой благодетель, вам обязан я моим счастьем; чем могу возблагодарить вас?.. всей моей жизни мало для этого..." У Чичикова в голове тотчас блеснула своя мысль: "Я ничего для вас не сделал; это случай, - отвечал он, - я очень счастлив, но вы легко можете отблагодарить меня!" - "Чем, чем? - повторил Тентетников, - скажите скорее, и я все сделаю", Тут Чичиков рассказывает о своем мнимом дяде и о том, что ему необходимо хотя на бумаге иметь 300 душ. "Да зачем же непременно мертвых? - говорит Тентетников, не хорошо понявший, чего собственно добивается Чичиков. - Я вам на бумаге отдам все мои 300 душ, и вы можете показать наше условие вашему дядюшке, а после, когда получите от него имение, мы уничтожим купчую". Чичиков остолбенел от удивления! "Как? вы не боитесь сделать это?.. вы не боитесь, что я могу вас обмануть... употребить во зло ваше доверие?" Но Тентетников не дал ему кончить. "Как? - воскликнул он, - сомневаться в вас, которому я обязан более чем жизнью!" Тут они обнялись, и дело было решено между ними. Чичиков заснул сладко в этот вечер. На другой день в генеральском доме было совещание, как объявить родным генерала о помолвке его дочери, письменно, или через кого-нибудь, или самим ехать. Видно, что Бетрищев очень беспокоился о том, как примут княгиня Зюзюкина и другие знатные его родные эту новость. Чичиков и тут оказался очень полезен: он предложил объехать всех родных генерала и известить о помолвке Уленьки и Тентетникова. Разумеется, он имел в виду при этом всё те же мертвые души. Его предложение принято с благодарностью. Чего лучше? думал генерал, он человек умный, приличный; он сумеет объявить об этой свадьбе таким образом, что все будут довольны. Генерал для этой поездки предложил Чичикову дорожную двухместную коляску заграничной работы, а Тентетников четвертую лошадь. Чичиков должен был отправиться через несколько дней. С этой минуты на него все стали смотреть в доме генерала Бетрищева, как на домашнего, как на друга дома. Вернувшись к Тентетникову, Чичиков тотчас же позвал к себе Селифана и Петрушку и объявил им, чтоб они готовились к отъезду. Селифан в деревне Тентетникова совсем изленился, спился и не походил вовсе на кучера, а лошади совсем оставались без присмотра. Петрушка же совершенно предался волокитству за крестьянскими девками. Когда же привезли от генерала легкую, почти новую коляску и Селифан увидел, что он будет сидеть на широких козлах и править четырьмя лошадьми в ряд, то все кучерские побуждения в нем проснулись и он стал, с большим вниманием и с видом знатока, осматривать экипаж и требовать от генеральских людей разных запасных винтов и таких ключей, каких даже и никогда не бывает. Чичиков тоже думал с удовольствием о своей поездке: как он разляжется на эластических с пружинами подушках, и как четверня в ряд понесет его легкую, как перышко, коляску. Вот всё, что читал при мне Гоголь из второго тома "Мертвых душ". Сестре же моей он прочел, кажется, девять глав. Она рассказывала мне после, что удивительно хорошо отделано было одно лицо в одной из глав; это лицо: эманципированная женщина- красавица, избалованная светом, кокетка, проведшая свою молодость в столице, при дворе и за границей*. Судьба привела ее в провинцию; ей уже за тридцать пять лет, она начинает это чувствовать, ей скучно, жизнь ей в тягость. В это время она встречается с везде и всегда скучающим Платоновым, который также израсходовал всего себя, таскаясь по светским гостиным. Им обоим показалась их встреча в глуши, среди ничтожных людей, их окружающих, каким-то великим счастьем; они начинают привязываться друг к другу, и это новое чувство, им незнакомое, оживляет их; они думают, что любят друг друга, и с восторгом предаются этому чувству. Но это оживление, это счастие было только на минуту, и чрез месяц после первого признания они замечают, что это была только вспышка, каприз, что истинной любви тут не было, что они и не способны к ней, и затем наступает с обеих сторон охлаждение и потом опять скука и скука, и они, разумеется, начинают скучать в этот раз еще боле, чем прежде. Сестра уверяла меня, а С. П. Шевырев подтвердил, что характер этой женщины и вообще вся ее связь с Платоновым изображены были у Гоголя с таким мастерством, что ежели это правда, то особенно жаль, что именно эта глава не дошла до нас, потому что мы все остаемся теперь в том убеждении, что Гоголь не умел изображать женские характеры; и действительно везде, где они являлись в его произведениях, они выходили слабы и бледны. Это было замечено даже всеми критиками. * (Чегранова.) Когда Гоголь окончил чтение, то обратился ко мне с вопросом. "Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?" - "Удивительно, бесподобно! - воскликнул я. - В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь, как она есть, без всяких преувеличений; а описание сада - верх совершенства". - "Ну, а не сделаете ли вы мне какого-либо замечания? Нет ли тут вещи, которая бы вам не совсем понравилась?" - возразил снова Гоголь. Я немного подумал и откровенно отвечал ему, что Уленька кажется мне лицом немного идеальным, бледным, неоконченным. "К тому же, - прибавил я, - вы изобразили ее каким-то совершенством, а не говорите между тем, отчего она вышла такою, кто в этом виноват, каково было ее воспитание, кому она этим обязана... Не отцу же своему и глупой молчаливой англичанке". Гоголь немного задумался и прибавил: "Может быть, и так. Впрочем, в последующих главах она выйдет у меня рельефнее. Я вообще не совсем доволен; еще много надо будет дополнить, чтобы характеры вышли покрупнее..." 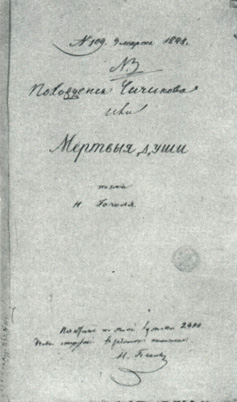 'Мертвые души'. Титульный лист цензурного экземпляра ...Вскоре после чтения второго тома "Мертвых душ" я уехал в Москву, а Гоголь остался в Калуге еще на две недели. Прошел месяц с небольшим. Я был зван на именинный обед в Сокольники, к почтенному И. В. Капнисту*. Гостей было человек семьдесят. Обедали в палатке, украшенной цветами; в саду гремела полковая музыка. Гоголь опоздал и вошел в палатку, когда уже все сидели за столом. Его усадили между двумя дамами, его великими почитательницами. После обеда мужчины, как водится, уселись за карты; девицы и молодежь рассыпались по саду. Около Гоголя образовался кружок; но он молчал и, развалившись небрежно в покойном кресле, забавлялся зубочисткой. Я сидел возле зеленого стола, за которым играли в ералаш три сенатора и военный генерал. Один из сенаторов, в военном же мундире, с негодованием посматривал на Гоголя. "Не могу видеть этого человека, - сказал он наконец, обращаясь к другому сенатору во фраке.- Посмотрите на этого гуся, как важничает, как за ним ухаживают! Что за аттитюда**, что за аплон!*** - и все четверо взглянули на Гоголя с презрением и пожали плечами. "Ведь это революционер, - продолжал военный сенатор, - я удивляюсь, право, как это пускают его в порядочные дома? Когда я был губернатором и когда давали его пиесы в театре, поверите ли, что при всякой глупой шутке или какой-нибудь шалости, насмешке над властью, весь партер обращался к губернаторской ложе. Я не знал, куда деться, наконец не вытерпел и запретил давать его пиесы. У меня в губернии никто не смел и думать о "Ревизоре" и других его сочинениях. Я всегда удивлялся, как это правительство наше не обращало внимания на него: ведь его стоило бы за эти "Мертвые души", и в особенности за "Ревизора", сослать в такое место, куда ворон костей не заносит!" Остальные партнеры почтенного сенатора совершенно были согласны с его замечаниями и прибавили только: "Что и говорить, он опасный человек, мы давно это знаем". * (Сын поэта и драматурга В. В. Капниста; по время последнего пребывания Гоголя в Москве он был московским губернатором.) ** (Поза.) *** (Апломб.) Через несколько дней я встретил Гоголя на Тверском бульваре, и мы гуляли вместе часа два. Разговор зашел о современной литературе. Я прежде никогда не видал у Гоголя ни одной книги, кроме сочинений отцов церкви и старинной ботаники, и потому весьма удивился, когда он заговорил о русских журналах, о русских новостях, о русских поэтах. Он всё читал и за всем следил. О сочинениях Тургенева, Григоровича, Гончарова отзывался с большою похвалой. "Это все явления утешительные для будущего, - говорил он. - Наша литература в последнее время сделала крутой поворот и попала на настоящую дорогу. Только стихотворцы наши хромают, и времена Пушкина, Баратынского и Языкова возвратиться не могут!" Нынешняя поездка моя была невелика: всё почти в окрестностях Москвы и в сопредельных губерниях. Дальнейшее путешествие отложил до другого года, потому что на каждом шагу останавливаем собственным невежеством. Нужно сильно запастись предуготовительными сведениями, чтобы узнать, на какие предметы преимущественно следует обратить внимание; иначе, подобно посылаемым чиновникам и ревизорам, проедешь всю Россию и ничего не узнаешь... Все время мое отдано работе, часу нет свободного. Время летит быстро, неприметно. О, как спасительна работа! Гоголь прочел нам в другой раз* первую главу (второго тома) "Мертвых душ". Мы были поражены удивлением: глава нам показалась еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал: "Вот что значит, когда живописец дает последний туш своей картине". Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено, - и все выходит другое**. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны. * (Чтения происходили в подмосковном имении Аксаковых Абрамцеве: первое - в августе 1849 г., второе - в январе 1850 г.) ** (По свидетельству М. А. Максимовича, Гоголь так говорил о своем труде над вторым томом "Мертвых душ": "Беспрестанно исправляю и всякий раз, когда начну читать, то сквозь написанные строки читаю еще не написанное".) Сначала нужно набросать всё как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно всё, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда более (это скажется само собой) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-что и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях - и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, и, где не хватает места, - взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час - вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз - как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственной рукой, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; что называется у живописца: зарисуешься. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина. Мне казалось необходимым написать вам хоть часть моей исповеди... Нужна ли вам, точно, моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего, или с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и, что писано было затем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Скажу вам из этой исповеди одно только то, что я много выстрадал с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл всей душой, и состояние мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее от того, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношения к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, что все случилось от того, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое очень важное взглянули легко, по крайней мере, гораздо легче, чем следовало. Вы бы все меня лучше узнали, если б случилось нам прожить подольше где-нибудь не праздно, но за делом... Тогда бы и мне, и вам оказалось видно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас. Бог не даром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же. Все же отношения наши не таковы, чтобы глядеть на меня, как на чужого человека. Письмо но датировано и предположительно относится к 1850 году. По семейному преданию, весной того года Гоголь просил руки Анны Михайловны, но Вьельгорские, при всем видимом расположении к Гоголю, но могли допустить и мысли о родстве с незнатным, мелкопоместным дворянином, пусть и прославленным писателем. Отношения Гоголя с Вьельгорскими кончились, и дальнейшая переписка прекратилась. Можно предположить, что А. М. Вьельгорскую Гоголь пытался изобразить в Уленьке из второй части "Мертвых душ".  Чичиков у Плюшкина. Рисунок А. Агина. 1846 г. Гоголь чувствовал, что суровая северная зима действует вредно на его здоровье, но в его планы не входили уже поездки за границу, и потому он избрал своим зимовьем Одессу, откуда намеревался проехать в Грецию или в Константинополь. Для этого он начал заниматься новогреческим языком, по молитвеннику, который во время переезда в Малороссию составлял единственное его чтение. Он читал его по утрам вместо молитвы, стараясь, однако ж, делать это тайком от своего спутника...* В пятом часу пополудни <13 июля 1850 г.> путники выехали из дома Аксаковых, у которых они на прощанье обедали... Его все занимало в дороге, как ребенка, и он часто, для выражения своих желаний, употреблял язык, каким любят объясняться между собой школьники. Так, например, ложась спать, он отправлялся "к Храповицкому", а когда желал только отдохнуть, то говаривал своему спутнику: "Не пойти ли нам к Полежаеву?" Ходил он также "к Обедову" и к другим господам по разным надобностям, и все то без малейшего вида шутки. * (Гоголь ехал вместе со своим близким приятелем М. А. Максимовичем, который приезжал в собственном экипаже с Украины в Москву и теперь возвращался домой.) Когда надоедало ему сидеть и лежать в бричке, он предлагал товарищу "пройти пехандачка" и мимоходом собирал разные цветы, вкладывая их тщательно в книжку и записывая их латинские и русские названия, которые говорил ему Максимович. Это он делал для одной из своих сестер, страстной любительницы ботаники... В дороге один случай явственно задел поэтические струны в душе Гоголя. Это было в Севске, на Ивана Купалу. Проснувшись на заре, наши путешественники услышали неподалеку от постоялого двора какой-то старинный напев, звонко раздававшийся в свежем утреннем воздухе. "Поди послушай, что это такое, - просил Гоголь своего друга, - не купальные ли песни. Я бы сам пошел, но ты знаешь, что я немного из-под Глухова". Максимович подошел к соседнему дому и узнал, что там умерла старушка, которую оплакивают поочередно три дочери. Девушки причитывали импровизированные жалобы с редким искусством и вдохновляясь собственным плачем. Все служило им темою для горестного речитатива: добродетельная жизнь покойницы, их неопытность в обхождении с людьми, их беззащитное сиротское состояние... Проплакав всю ночь, девушки до такой степени наэлектризовались поэтически-горестным выражением своих чувств, что начали думать вслух тоническими стихами. Раза два появлялись они, то та, то другая, на галерейке второго этажа и, опершись на перила, продолжали свои вопли и жалобы, а иногда обращались к утреннему солнцу, говоря: "Солнышко ты мое красное", и тем живо напоминали мне (говорил Максимович) Ярославну, плакавшую рано "Путивлю городу на забороле"*. Когда он рассказал о всем виденном и слышанном Гоголю, тот был поражен поэтичностью этого явления и выразил намерение воспользоваться им при случае в "Мертвых душах". * (В Путивле на городской стене.) 25 июня путники расстались в Глухове, откуда Гоголь уехал в Васильевку. Я приехал в Сорочинцы благополучно, но в чужом экипаже. Пожалуйста, пе сказывая матушке, вели заложить коляску и завтра же пораньше, прежде чем станет светать, часа в три, выехать за мной. Матушке можешь сказать на другой день поутру: иначе она не будет спать. Расставаясь с Гоголем в Глухове 25 июня, я дал обещание ему быть у него в августе... из Миргорода, с связкой миргородских бубликов для Гоголя, поспешил я в Сорочипцы... От г-жи Трофимовской узнал я, что Гоголь приехал сюда из Обуховки. Это известие и неожиданная встреча с Гоголем на месте его рождения весьма обрадовали меня... Мы переезжали через Псёл и ехали в Васильевку ночью, при свете полного месяца. Наслаждением для меня было промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеявшим его с детства. И никогда я не видел его таким одушевленным, как в эту украинскую ночь. Обстоятельства мои таковы, что я должен буду просить позволения и даже средств проводить три зимние месяца в году в Греции или на островах Средиземного моря и три летние где-нибудь внутри России. Это не прихоть, но существенная потребность моего слабого здоровья и моих умственных работ... А между тем предмет труда моего немаловажен. В остальных частях "Мертвых душ", над которыми теперь сижу, выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных. Многое, нами позабытое, пренебреженное, брошенное следует выставить ярко в живых, говорящих примерах, способных подействовать сильно. О многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще и русскому в особенности. Поэтому мне кажется, что я имею некоторое право поберечь себя и позаботиться о своем самосохранении. Принужденный поневоле наблюдать за своим здоровьем, я уже заметил, что тот год для меня лучше, когда лето случалось провести на севере, а зиму на юге. Летнее путешествие по России мне необходимо потому, что на многое следует взглянуть лично и собственными глазами. Зимнее пребывание в некотором отдалении от России, на юге, тоже необходимо... Писателю бывает необходимо временное отдаление от предмета, который он видел вблизи, затем, чтобы лучше обнять его. У меня же это преимущественная особенность моего глаза. Присоветуйте, придумайте, как поступить мне, чтобы получить беспошлинный паспорт и некоторые средства для проезда. Состояния у меня нет никакого, жалования не получаю ниоткуда... Пишу из Одессы, куда убежал от суровости зимы. Последняя зима, проведенная в Москве, далась мне знать сильно. Думал было, что укрепился и запасся здоровьем на юге надолго, но не тут-то было. Зима третьего года кое-как перекочкалась, но прошлого - едва-едва вынеслась. Не столько были несносны для меня сами недуги, сколько то, что время во время их пропало даром, а время мне дорого. Работа - моя жизнь; не работается - не живется... Зачитывавшиеся произведениями Гоголя студенты Ришельевского <одесского> лицея с благоговением, смешанным с удивлением и любопытством, оглядывали на улице странно одетого, с сумрачным и скорбным, бледным лицом Гоголя. Те, что были посмелее, даже следовали за ним - правда, в довольно значительном отдалении. В 1851 году я состоял в числе актеров русской одесской труппы. В начале января мне встретилась надобность повидаться с членом дирекции театра А. И. Соколовым. Дома я его не застал. Дай, думаю, побываю у Оттона (известный в то время ресторатор в Одессе), не найду ли его там?.. Действительно, Соколов оказался у Оттона. Кончив немногосложное дело, по которому мне надо было видеться с Александром Ивановичем, я полюбопытствовал узнать, по какой это причине он так поздно обедает (был час восьмой вечера).  'Кувшинное рыло'. Рисунок А. Агина. 1846 г. - Вы, сколько мне известно, Александр Иванович, враг поздних обедов... Неужели вы заседаете здесь с двух часов? - Именно так - заседаю с двух часов!.. Что вы смеетесь? Здесь, батюшка, Гоголь! Вот что! - Я знаю, что Гоголь в Одессе еще с конца прошлого года, но... - Да не в том дело, что он в Одессе, а в том, что он здесь, в ресторане... По некоторым дням он здесь обедает и, по своей привычке, приходит поздно - часу в пятом, шестом.., Ну, а у меня своя привычка, я так долго ждать не могу обеда, как вам известно, - вот я пообедаю в свое время и сижу, жду; начнут "наши" подходить понемногу, а там и Николай Васильевич приходит, садится обедать - а мы составляем ему компанию... Вот почему я здесь и заседаю с двух часов... Хотите, пойдемте, я представлю вас ему... Он хотя терпеть не может новых лиц, но вы человек "маленький", авось при вас он не будет ежиться... Пойдем! Мы вошли в другую комнату, которая из общей ради Гоголя превратилась в отдельную и отворялась только для его знакомых. Робко, с бьющимся сердцем, переступал я порог заветной комнаты. Все собеседники Гоголя были более или менее хорошо мне знакомы, но при мысли видеть Гоголя, говорить с ним, нервная дрожь пробирала меня и голова кружилась. При входе в заветную комнату я увидел сидящего за столом, прямо против дверей, худощавого человека... Острый нос, небольшие пронзительные глаза, длинные, прямые темно-каштановые, причесанные a la мужик, волосы, небольшие усы... Вот что я успел заметить в наружности этого человека, когда при скрипе затворенной двери он вопросительно взглянул на нас... Человек этот был Гоголь. Соколов представил меня. - А! добро пожаловать, - сказал Гоголь, вставая и с радушной улыбкой протягивая мне руку. - Милости просим в нашу беседу... Садитесь здесь, возле меня, - добавил он, отодвигая свой стул и давая мне место. Я сел, робость моя пропала. Гоголь, с которого я глаз не спускал, занялся исключительно мной. Расспрашивал меня о том, давно ли я на сцене, сколько мне лет, когда я из Петербурга, он, между прочим, задал мне также вопрос: - А любите ли вы искусство? - Если б я не любил искусство, то пошел бы по другой дороге. Да во всяком случае, Николай Васильич, если б я даже и не любил искусства, то наверно вам-то в этом не признался бы. - Чистосердечно сказано! - сказал, смеясь, Гоголь, - но хорошо вы делаете, что любите искусство, служа ему. Оно только тому и дается, кто его любит. Искусство требует всего человека. Живописец, музыкант, писатель, актер - должны вполне, безраздельно отдаваться искусству, чтобы значить в нем что-нибудь... Поверьте, гораздо благороднее быть дельным ремесленником, чем лезть в артисты, не любя искусства*. * (Большею частью я передал, конечно, только смысл говоренного Гоголем. С буквальной точностью я, к сожалению, слов его не записал. (Прим. автора воспоминании А. Толченова.).) Слова эти, несмотря на то, что в них не было ничего нового, произвели на меня сильное впечатление: так просто, задушевно, тепло они были сказаны. Не было в тоне Гоголя ни докторальности, ни напускной важности, с которыми иные почитают делом совести изрекать юношам самые истертые аксиомы поношенной морали... Видя в руках моих бумагу, Гоголь спросил: - Что это? Не роль ли какая? - Нет, это афиша моего бенефиса*, которую я принес для подписи Александру Ивановичу. * (Так назывался спектакль, сбор от которого шел в пользу актера.) - Покажите, пожалуйста. Я подал ему афишу, которая, по примеру всех бенефисных афиш, как провинциальных, так и столичных, была довольно великонька.  Капитан Копейкин. Рисунок А. Агина. 1846 г. - Гм! а не долго ли продолжится спектакль? Афиша-то что-то велика, - заметил Гоголь, прочитав внимательно афишу. - Нет, пьесы небольшие; только ради обычая и вкуса большинства публики афиша, как говорится, расписана. - Однако все, что в ней обозначено, действительно будет? - Само собою разумеется. - То-то! Вообще никогда не прибегайте ни к каким пуфам, чтоб обратить на себя внимание. Оно дурно и вообще в каждом человеке, а в артисте шарлатанство просто неприлично... Давно я не бывал в театре, а на ваш праздник приду! Разговор сделался общим. Гоголь был, как говорится, в ударе. Два или три анекдота, рассказанные им, заставили всю компанию хохотать чуть не до слез. Каждое слово, вставляемое им в рассказы других, было метко и веско... ...Разошлись по домам часов в девять. Такова была моя первая встреча с Гоголем. Я с трудом мог прийти в себя от изумления: так два часа, проведенные в обществе Гоголя, противоречили тому, что мне до тех пор приходилось слышать о Гоголе как о члене общества. Все слышанное мною про него в Москве и Петербурге*так противоречило виденному мною в этот вечер, что на первое время удивление взяло верх над всеми другими впечатлениями. Я столько слышал рассказов про нелюдимость, недоступность, замкнутость Гоголя, про его эксцентрические выходки в аристократических салонах обеих столиц; так жив еще был в моей памяти рассказ, слышанный мною за два года в Москве, о том, как, приглашенный в один аристократический московский дом, Гоголь, заметя, что все присутствующие собрались собственно затем, чтобы посмотреть и послушать его, улегся с ногами на диван и проспал, или притворился спящим, почти весь вечер, - что в голове моей с трудом переваривалась мысль о том, чтоб Гоголь, с которым я только расстался, которого видел сам, был тот же человек, о котором я составил такое странное понятие по рассказам о нем... Сколько одушевления, простоты, общительности, заразительной веселости оказалось в этом неприступном, хоронящемся в самом себе человеке. Неужели, думал я, это один и тот же человек, - засыпающий в аристократической гостиной, и сыплющий рассказами и заметками, полными юмора и веселости, и сам от души смеющийся каждому рассказу смехотворного свойства, - в кругу людей, нисколько не участвующих и не имеющих ни малейшей надежды когда-нибудь участвовать в судьбах России? 6 января <1851 г.> - "...я лучше почитаю вам комедию Мольера "Агнеса" <"Школу женщин",> которую начал; мне нужно кончить; меня просили в театральной дирекции, а дома никак не соберусь; вы мне одолжите"... и Гоголь начал. Он так вошел в роль отвергнутого старика, так превосходно выразил горько-безнадежные страсти, что все смешное в старике исчезло: отзывалась одна несчастная страсть, так что последний ответ Агнесы кажется неуместным. Немного великодушия, с чем и Гоголь согласился*. Лицо у него сделалось, как у испуганной орлицы. Он долго был под влиянием страстных дум, может быть, разбуженных воспоминаний. * (По-видимому, имеется в виду последняя реплика Агнесы в ответ на признания воспитавшего ее и влюбленного в нее Арнольфа.) 20-го - Читал "Одиссею". Я не узнала первой главы; так прекрасна она мне показалась, пройдя через его голос, язык, душу и физиономию. Он не делал жестов, но подо мною диван дрожал, на котором он сидел подле меня. 24 янв. - Гоголь читает всякий день главу из библии и евангелия на славянском, латинском, греческом и английском языках. Гоголь: "Как странно иногда слышать: "к стыду моему, должна признаться, что я не знаю славянского языка". Зачем признаваться? Лучше ему выучиться: стоит две недели употребить". Этот дневник вела пожилая девица по имени Екатерина Александровна, жившая в Одессе у князей Репниных, у которых Гоголь бывал почти ежедневно; в их доме ему была отведена даже особая комната для работы. До окончания бенефиса я не имел возможности, за хлопотами, видеть Гоголя, но он сдержал свое обещание и был в театре в день моего бенефиса, в ложе директора Соколова, и, по словам лиц, бывших вместе с ним, высидел весь спектакль с удовольствием и был очень весел, Вслед за моим бенефисом шел бенефис известной актрисы А. И, Шуберт; она выбрала для постановки "Школу женщин" Мольера. А, И, Соколов, зная, как трудно молодым актерам, воспитавшимся совершенно на иных началах, передавать так называемые классические произведения, просил Николая Васильевича прочесть пьесу актерам, чтоб дать им верный тон и тем облегчить для них не совсем легкую задачу, которая представляется актерам при исполнении мольеровского произведения. Гоголь изъявил свое согласие, и для чтения пьесы положил собраться в квартире режиссера труппы А. Ф, Богданова, знакомого Гоголя еще по Москве, так как Богданов был женат на родной сестре М. С. Щепкина, а известно, как близок был Гоголь к дому Щепкина. В назначенный вечер актеры и актрисы, участвовавшие в "Школе женщин", собрались у Богданова... Часов в восемь вечера пришел Гоголь с Соколовым. Войдя в комнату и увидя столько незнакомых лиц, он заметно сконфузился; когда же ему стали представлять всех присутствующих, то он совершенно растерялся, вертел в руках шляпу, комкал перчатки, неловко раскланивался и, нечаянно увидав меня,- человека уже знакомого ему,- быстро подошел ко мне и как-то нервически стал жать мне руку, отчего я в свою очередь сконфузился. Впрочем, замешательство Гоголя продолжалось не долго. Как только окончилась скучная церемония взаимного представления, каждый стал продолжать прерванный разговор, поднялся общий говор, шум, смех, как будто между нами и не было великого человека!.. Заметив, что на него не смотрят, как на чудо-юдо, что, по-видимому, никто не собирается записывать его слов, движений, Гоголь совершенно успокоился, оживился, и пошла самая одушевленная беседа... После чаю все уселись вокруг стола, за которым сидел Гоголь; водворилась тишина, и Гоголь начал чтение "Школы женщин". 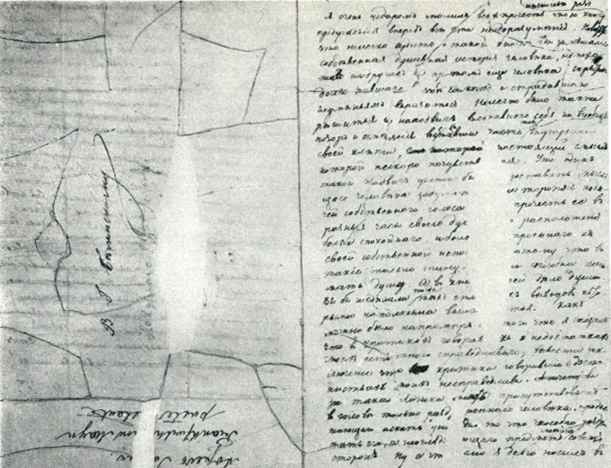 Ответ Н. В. Гоголя на 'Письмо' В. Г. Белинского, черновой и неотосланный. Автограф По совести могу сказать - такого чтения я до тех пор не слыхивал. Поистине, Гоголь читал мастерски, но мастерство его было особого рода, не то, к которому привыкли мы, актеры. Чтение Гоголя резко отличалось от признаваемого при театре за образцовое отсутствием малейшей эффектности, малейшего намека на декламацию. Оно поражало своей простотой, безыскусственностью и вместе с тем необычайной образностью, и хотя порою, особенно в больших монологах, оно казалось монотонным и иногда оскорблялось резким ударением не на цезуру стиха, но зато мысль, заключенная в речи, рельефно обозначалась в уме слушателя и, по мере развития действия, лица комедии принимали плоть и кровь, делались лицами живыми, со всеми оттенками характеров. Впоследствии, на одном из вечеров у Оттона... Гоголь читал свою "Лакейскую", и лицо дворецкого еще до сих пор передо мною как живое. Перенять манеру чтения Гоголя, подражать ему,- было бы невозможно, потому что все достоинство его чтения заключалось в удивительной верности тону и характеру того лица, речи которого он передавал, в поразительном уменьи подхватывать и выражать жизненные, характерные черты роли, в искусстве оттенять одно лицо от другого, то есть в том, что в сценическом искусстве называется созданием характера, типа... Через несколько дней, когда уже роли у актеров из "Школу женщин" были тверды, Николая Васильевича пригласили в театр на репетицию, и, несмотря на свое обыкновение ранее четвертого часа из дома не выходить, он пришел на репетицию в десять часов. Кроме участвовавших в пьесе, на сцене никого но было. Гоголь внимательно выслушал всю пьесу и по окончании репетиции каждому из актеров по очереди, отводя их для этого в сторону, высказал несколько замечаний, требуя исключительно естественности, жизненной правды; но вообще одобрил всех игравших; госпожею же Шуберт (Агнеса) остался особенно доволен, но был серьезен, сосредоточен, ежился, кутался в шинель и жаловался на холод, который, как известно, действовал на него неблагоприятно... Минутами, часами, днями Гоголь, по природе своей, оставался жизнелюбивым, общительным, полным юмора, оптимистичным - оставался самим собой, - но все ощутимее становились происходившие в нем перемены. Все более и более овладевали им религиозно-аскетические настроения, и он делался замкнутым и мрачным, догматичным в своих суждениях, все более настраиваясь на высокий тон поучительства, как бы внушенного ему свыше. В той же поездке из Москвы в Одессу он заезжал в монастыри, молился там, особенно в Оптиной пустыни. Оп просил настоятеля монастыря и всю его "братию" усердно молиться о нем, чтобы он, недостойный, мог поведать людям божественное откровение. На рабочем столе его все чаще появляются книги "духовного", религиозного, содержания; поучения церковных проповедников, тома "Христианского чтения", "Начертание библейской церковной истории", молитвенники и др. Узким и тесным становится круг его повседневного общения: священники, монахи, другие лица, предавшиеся исключительно религиозности, богословию, реакционной философии. И из Одессы весной 1851 года Гоголь торопится уехать, чтобы по дороге в Москву заехать в Васильевку, к родным, попасть к церковному празднику пасхи и затем поскорее повидаться в Москве с Жуковским, который, как предполагалось, должен был возвратиться с семьей из-за границы. Правда, эта последняя встреча не состоялась - возвращение Жуковского было отложено. По записи в дневнике М. П. Погодина, Гоголь 5 июня был уже в Москве. Больше никуда далеко из Москвы он не уезжал. Собраться осенью 1851 года снова в поездку на юг (как он намечал, в Крым) он по общему своему физическому состоянию уже не смог, хотя объяснял это лишь тем, что "не устроил своих дел, чтобы иметь средства прожить эту зиму в Крыму". Был Гоголь и в крайней бедности. Он обещал было родным приехать в Васильевку на свадьбу сестры и затем уже отправиться дальше на юг. Выехал из Москвы, но в припадке грусти свернул в ту же Оптину пустынь и, не владея собой, стал советоваться с особо почитаемым отшельником этой пустыни и, измучив его своею нерешительностью, вернулся с дороги в Москву. По всей вероятности, он боялся расхвораться в пути и этим расстроить родных. "Нервы дошли до такой раздражительности, - писал Гоголь по этому поводу матери, - что дорога, которая всегда для меня полезна, теперь стала даже вредоносна". Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-го октября 1851 года...* Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее - и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении "Ревизора"; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Е. М. Феоктистов**. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 41 года. Я раза два встретил его у Авдотьи Петровны Елагиной***. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивалось к постоянно проницательному выражению его лица. * (И. С. Тургенев приезжал в то время из Петербурга в Москву.) ** (Евгений Михайлович Феоктистов (1828-1898) - литератор, приятель Тургенева.) *** (Авдотья Петровна Елагина, по первому мужу - Киреевская (1789-1877) - мать известных славянофилов и фольклористов Ивана и Петра Киреевских. В ее салоне в Москве собирались литераторы, преимущественно славянофилы. Бывали в нем Пугакип и Гоголь.) Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: "Нам давно следовало быть знакомыми". Мы сели. Я рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович на креслах, возле него. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость - именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались - так, по крайней мере, мне показалось - темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское - что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. "Какое ты умное, и странное, и больное существо!" - невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении "Мертвых душ", об этой второй части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертью, - что он этого разговора не любит. О "Переписке с друзьями" я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о пей хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе - а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь* же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание. * (То есть в 1869 г., когда были написаны и впервые напечатаны эти воспоминания.) Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив! на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово - что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о; других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня, - исчезло. Он говорил о значении литературы, Q призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, о самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства, и все это - языком образным, оригинальным и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у "знаменитостей". Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей - только тогда мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом необходимость цензуры - не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта: "Si, servi siam; та servi ognor frementi"*, но самодовольное смирение и плутовство рабства... нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно высказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть "Переписки"; оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим - лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту - в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним. * (Мы рабы... да; по рабы, вечно негодующие. (Примеч. И. С. Тургенева.)) Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру*; о первом из них, об его письме к нему - он не заикнулся: это имя обожгло бы ему губы. Но в то время только что появилась - в одном заграничном издании - статья Искандера, в которой он, по поводу пресловутой "Переписки", упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений. Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти... мы знаем, какою неизлечимой раной залегло в его сердце полное фиаско его "Переписки" - это фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы, с покойным М. С. Щепкиным, были свидетелями - в день нашего посещения, - до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас - внезапно изменившимся, торопливым голосом, - что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии; - что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал и, в доказательство того, готов нам указать на некоторые места в одной своей, уже давно напечатанной книге... Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. * (Псевдоним Герцена; в дальнейшем речь идет о его книге "Развитие революционных идей в России".) Михаил Семенович только брови возвел горе - и указательный палец поднял... "Никогда таким его не видел", - шепнул он мне...  Дом в Москве, на Никитском бульваре (ныне Суворовский бульвар), в котором Н. В. Гоголь жил в последние годы Гоголь вернулся с томом "Арабесок" в руках - начал читать на выдержку некоторые места одной из этих детски-напыщенных и утомительно-пустых статей, которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п.* "Вот видите, твердил Гоголь, я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве... Меня?" - И это говорил автор "Ревизора", одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным молчали**. Гоголь бросил, наконец, книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в "Ревизоре", что они "тон потеряли" и что он готов им прочесть всю пиесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору с вынутой частицей***. Мы удалились. * (Вероятно, из статьи "О преподавании истории".) ** (По словам М. С. Щепкина, записанным его сыном, Гоголь сказал тогда о своей книге "Выбранные места из переписки с друзьями": "Правда, и я во многом виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою "Переписку с друзьями". Я бы сжег ее". (Н. М. Щепкин из "Воспоминаний о М. С. Щепкине".)) *** (То есть особый хлебец, употребляемый в церковном богослужении.) Дня через два происходило чтение "Ревизора" в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей, и - если не ошибаюсь - Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в "Ревизоре", явились на приглашение Гоголя; им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение... Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся читать - и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно... Я слушал его тогда в первый - и в последний раз. Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его - драматическое, почти театральное; в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет - есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный - особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться - хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело - и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пиесы): "Пришли, понюхали и пошли прочь!" - Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием поскорей насмешить - обыкновенно разыгрывается на сцене "Ревизор". Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась, и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор - и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился; с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: "Ведь я велел тебе никого не пускать!" Молодой литератор слегка пошевелился на стуле - а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды - и снова принялся читать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, недоканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы - и только махал рукой. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностию своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью: он и знает, что врет - и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга - это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого "подхватило". "Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет - а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!" Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение "Ревизора" в тот день было - как Гоголь сам выразился - не более, как намек, эскиз; и все по милости непрошеного литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет. В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизнь. По свидетельству врача Алексея Терентьевича Тарасенкова (1816-1873), наблюдавшего Гоголя в последние дни его жизни, можно было заметить резкую перемену в самочувствии писателя приблизительно за месяц до его смерти: появилась общая слабость и удрученное настроение. Это состояние только усиливалось. Зловещей, мрачной фигурой был в это время при Гоголе давний знакомый и "духовный отец" А. П. Толстого - священник Константиновский, так называемый отец Матвей. Он действовал угнетающе на восприимчивую психику больного. Желая "очистить совесть" Гоголя, приготовить его "к непостыдной кончине", он изнурял его постами и молитвами по самым строгим церковным установлениям, постоянно упрекая в "неправильной" жизни, требуя беспрекословного подчинения ему, требуя, например, даже отречься от Пушкина как от "грешника и язычника". Разговоры этого духовного лица так потрясали больного, что однажды, по свидетельству доктора Тарасенкова, он не выдержал и сказал духовнику: "Довольно! Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно!" В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Гоголь сжег подготовленный к печати 2-й том "Мертвых душ". Ночью на вторник (с 11-го на 12 февраля) он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. "Свежо", - ответил тот. - "Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться". И он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил, Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: "Барин! что это вы? Перестаньте!" - "Не твое дело, - ответил он. - Молись!" Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. Долго огонь не мог пробраться сквозь толстые слои бумаги, но наконец вспыхнул, и все погибло. Рассказывают, что Гоголь долго сидел неподвижно и наконец проговорил: "Негарно мы зробили, пегарно, недобре дило". Это было сказано мальчику, бывшему его камердинером. Когда все сгорело, он долго сидел задумавшись, потом заплакал, велел позвать графа <А. П. Толстого>, показал ему догорающие углы бумаг и с горестью сказал: "Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, - вот он к чему меня подвинул! А я было так много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях... А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало". С каждым днем Гоголь слабел. Приглашенные к нему врачебные знаменитости Москвы ничего не могли сделать. Больной решительно отказывался от еды и лекарств. Да и саму болезнь врачи не смогли определить. Доктор Тарасенков, постоянно наблюдавший Гоголя, так, одновременно и научно и образно, определил ее причину: "Это было лощение", то есть медленное изнурение себя голодом. Около восьми часов утра 21 февраля Гоголь умер. ...Скажу Вам без преувеличения, с тех пор как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя... Эта страшная смерть - историческое событие, понятна не сразу; это тайна, тяжелая, грозная тайна - надо стараться ее разгадать... но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает... все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех русских, кои ближе других стоят к ее недрам, - ни одному человеку, самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу целого народа, и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер потому, что решился, захотел умереть, и это самоубийство началось с истребления "Мертвых душ"... Что касается до впечатления, произведенного здесь* его смертью... да будет вам достаточно знать, что попечитель здешнего университета граф Мусин-Пушкин не устыдился назвать Гоголя публично писателем лакейским. Это случилось на днях по поводу нескольких слов, написанных мною для "С.-Петербургских ведомостей" о смерти Гоголя... Гр. Мусин-Пушкин не мог довольно надивиться дерзостью людей, жалеющих о Гоголе... * (То есть в Петербурге.) * (Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886) - третий по старшинству сын С. Т. Аксакова, поэт, публицист, славянофил. Письмо это было задержано полицией; отрывок из него сохрапился (в копии) в "деле" III отделения.) Статья И. С. Тургенева, которой он откликнулся на смерть Гоголя, петербургской цензурой была запрещена; побланная Тургеневым в Москву, она была напечатана 13 марта в газете "Московские ведомости" под заглавием "Письмо из Петербурга". За ослушание и нарушение правил цензуры Тургенев просидел месяц под арестом и затем был выслан на жительство в свою деревню Спасское-Лутовиново. В статье-некрологе Тургенев писал: Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, - пришла эта роковая весть! Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших! Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников... Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах... нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби... самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошаемых слезами... В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку - соединиться с ней в одном чувстве общей печали... Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове!.. |
|
|
