

 |
|
|

Произведения Ссылки |
В Петербурге - в "Отечественных записках" и в "Современнике" (ноябрь 1839 - 26 мая 1848)Когда Иван Иванович Панаев пригласил, еще в Москве, Белинского остановиться у него в доме, он рассчитывал, что может дать Белинскому не менее двух комнат внизу. Между тем в его отсутствие мать распорядилась нижними комнатами... Белинского поместили в той комнате, в которой помещался и я. Через несколько дней по приезде Белинский принялся за работу, и комната его наполнилась журналами, книгами, лежавшими и на стульях, и на столах, и на диване, и на полу. Днем я старался не ходить часто в эту комнату, чтобы не мешать Белинскому; но когда приходило время спать, а равно и утром, он много со мною разговаривал. Хотя Белинский занимался и днем, но, видимо, работы его подвигались главным образом по ночам. Днем Белинский часто засиживался наверху у Ивана Ивановича Панаева, которого очень многие посещали, и, кроме того, Белинский в это же время любил поболтать с молодою женою* Ивана Ивановича и поддразнивать ее, как ребенка, потешаясь проявлениями ее наивности. * (Авдотьей Яковлевной Панаевой (1819-1893); впоследствии - писательница, автор известных воспоминаний.) В этот период времени Иван Иванович вел более домашнюю жизнь. По вечерам приходили к нему близкие знакомые, и Белинский большею частью присутствовал тут и сосредоточивал на себе общее внимание, не только потому, что на него смотрели в этом кружке с особенным уважением, но по манере своей говорить. Белинский всегда говорил с искренним жаром, с убеждением, без уклонений и уверток; срединных мнений он не терпел, рубил сплеча и чем дальше подвигался с изложением своего мнения, тем более разгорячался; видимо, он принимал все к сердцу; говорил не для того, чтобы поговорить или блеснуть своим мнением, нет, - он говорил потому, что завязался разговор, потому что что-нибудь задело его за живое. Предметом его речи преимущественно были или беспощадная казнь, или восторженное искреннее восхваление какого-либо литературного произведения, общественного факта, литератора или общественного деятеля. 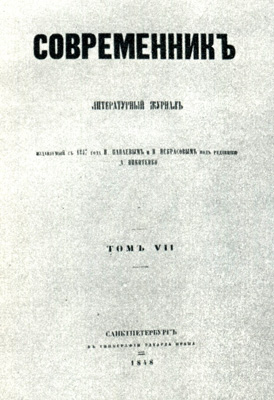 Титульный лист журнала 'Современник' Было чего наслушаться мне, юноше в 15 лет, приехавшему из провинции. Это время имело огромное влияние на всю мою жизнь... Белинский, как я уже упомянул, работал много по ночам, часов до 4, а иногда и долее. Я, бывало, долго лежал и смотрел на Белинского во время его писания. Меня интересовало наблюдать за ним, потому что занятие его казалось для меня некоторым образом каким-то священнодействием. Видимо было, что он жил в эти минуты - то радовался, то страдал. Его писание было плодом искренно прочувствованным; оттого-то оно и оставило по себе глубокие, неизгладимые следы. Часто случалось, что он с видимым негодованием и с какою-то душевною болью отбрасывал от себя ту или другую книгу. Вероятно, это было тогда, когда ему приходилось писать библиографию. Занятия его прерывались время от времени курением. Тогда он накладывал себе трубку и курил ходя, видимо обдумывая что-то. Так как в это время ему приходилось подходить близко к дивану, на котором я спал, то я, конечно, закрывал глаза и притворялся спящим. В течение ночи мне приходилось просыпаться не один раз и все видеть Белинского работающим, который часто кашлял таким особым звуком, который указывал на забирающуюся уже в его грудь змею. Тогда еще у меня сжималось сердце от мысли, каким тяжелым трудом добывает себе этот человек, которого я уже сильно полюбил, кусок хлеба. Тогда еще, несмотря на мою юность и неопытный взгляд на жизнь, мне казалось ничтожным назначенное ему издателем "Отечественных записок" вознаграждение. Я говорю об этом здесь, потому что, именно во время сказанного мною бодрствования в постели, эти мысли приходили мне в голову. Раз пришел я к Белинскому, как всегда, около полудня и застал у него гостя на вид лет под сорок; небольшого роста, с бледным худощавым лицом, русыми густыми волосами, надо лбом хохловато подчесанными, а у висков подвернутыми; выражение лица было добродушное, но меланхолическое. Сюртук на нем черный, довольно длинный, застегнутый; воротпички туго накрахмаленные и черный довольно высокий галстук. Это был поэт Кольцов; собственно-то, он был гораздо моложе, чем он казался, но от сердечного горя и от бедности он состарился раньше времени*. * (Кольцову во время его приезда в Петербург осенью 1840 года исполнялся 31-й год.) - Вот, Арнольд, - сказал Белинский, - вот у кого берите стихи для написания музыки. Если поймете его да угодите под слова, я и впрямь вас почту за истого русака; но коли не потрафите, буду вас немцем звать, хотя бы вы там пожаловались на меня и целой сотне Бенкендорфов. Я радостно согласился и просил назначить мне песню. - Ну, Алексей Васильевич! скажите, какую дадите вы ему песенку? - обратился Белинский к Кольцову. Поэт-прасол*, по скромной и застенчивой своей натуре, сначала конфузился: * (Отец Кольцова был скупщик скота - прасол, да и самому поэту приходилось принимать участие в торговых делах отца.) - Да почто же мне им еще назначать-то? Они лучше моего знают, что годится для музыки; сами выберут. Наконец, однако же, он сказал, что любимое его произведение есть стихи: "Не шуми ты, рожь, спелым колосом". - В нее-то всю душу свою я вылил! - прибавил он, и глаза у него невольно покрылись влагою*. * (Это стихотворение Кольцов написал на смерть своей невесты. (Примеч. Ю. К. Арнольда.)) Кстати: вышли повести Лермонтова*. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении** и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше Вальтер Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит "Онегина"... * ("Герой нашего времени".) ** (Лермонтов находился в это время под арестом после дуэли с Барантом.) ...Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему - он улыбнулся и сказал: "Дай бог!" Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве. Каждое его слово - он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним робок, - меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества... Он славно знает по-немецки и Гёте почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати: дуэль его - просто вздор. Барант (салонный Хлестаков) слегка царапнул его по руке, и царапина давно уже зажила. Суд над ним копчен и пошел на конфирмацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где приготовляется какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его, тем более что он любит его не для него самого, а для женщин... Ну, от света еще можно оторваться, а от женщин - другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера. Что ты, Боткин, не скажешь мне ничего о его "Колыбельной казачьей песне". Ведь чудо! Под впечатлением страстного тона философских статей Белинского и особенно пыла его полемики позволительно было представлять его себе человеком исключительных мнений, но терпящим возражений и любящим господствовать над беседой и собеседниками. Признаюсь, я был удивлен, когда на вечере А. А. Комарова* мне указали под именем Белинского господина небольшого роста, сутуловатого, со впалой грудью и довольно большими задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и как-то сразу, по-товарищески, отвечал на приветствия новых, знакомящихся с ним людей. Разумеется, я уже не встретил ни малейшего признака внушительности, позирования и диктаторских замашек, каких опасался, а напротив, можно было подметить у Белинского признаки робости и застенчивости, не допускавшие, однако ж, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошеных услугах какого-либо торопливого доброжелательства. Видно было, что под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще неловкость Белинского, спутанные речи и замешательство при встрече с незнакомыми людьми, над чем он сам так много смеялся, имели, как вообще и вся его персона, много выразительного и внушающего: за ними постоянно светился его благородный, цельный, независимый характер. Мы наслышались об увлечениях и порывах Белинского, но никаких порывов и увлечений в этот первый вечер моего знакомства с ним, однако ж, не произошло. Он был тих, сосредоточен и - что особенно поразило меня - был грустен. Поверяя теперь тогдашние впечатления этой встречи всем, что было узнано и расследовано впоследствии, могу сказать с полным убеждением, что на всех мыслях и разговорах Белинского лежал еще оттенок того философско-романтического настроения, которому оп подчинился с 1835 года и которому беспрерывно следовал в течение четырех лет, несмотря на то, что сменил Шеллинга на Гегеля в 1836/37 году, распрощался с иллюзиями относительно своеобычной красоты старорусского и вообще простого, непосредственного быта и перешел к обожанию "разума в действительности". Он переживал теперь последние дни этого философско-романтического настроения... * (По переезде в Петербург Белинский часто посещал кружок литераторов, собиравшийся у Александра Александровича Комарова (ум. 1874 г.) - поэта, преподавателя русской словесности в кадетском корпусе. "Я вошел в их кружок, - писал Белинский в июне 1840 г., - и каждую субботу бываю на их сходках. Моя натура требует таких дней. Раз в неделю мне надо быть в многолюдстве молодом и шумном".) Со второй или третьей встречи, однако же, обнаружилась у Белинского та добродушная веселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собеседников (что несколько удивляло меня сначала), которая соединялась у него всегда с какой-то незлобивой, почти ласковой насмешкой, с легкой иронией над самим собой и над окружающими. Со всем тем сквозь тогдашнюю веселость Белинского пробивалась все та же неотстранимая черта грусти. Он был печален - и не случайно, а как-то глубоко, задушевно... Белинский переживал страдания своего разрыва с московскими друзьями, только что обнаружившегося перед его отъездом из Москвы, и должен был чувствовать сильнее горечь этого обстоятельства теперь, в чужом, незнакомом и неприветливом городе, куда был занесен. 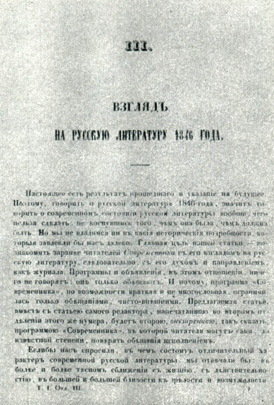 Первая обзорная статья В. Г. Белинского в 'Современнике' Очень несправедливо думали и думают еще теперь, что Белинскому было нипочем расставаться с людьми и менять свои отношения к ним на основании различия убеждений... Могу сказать наоборот, что редко встречал я людей, которые бы более страдали, будучи принуждены, вследствие неотстранимого логического и диалектического развития своих принципов, удаляться в другую сторону от прежних единомышленников. Он долго мучился как от потерей старого созерцания, так и потерей старых собеседников, и только убежденный в законности поворота, им сделанного, освобождался от всех тревог и приобретал новое качество, именно гнев и негодование, против тех, которые его задерживали па пути и напрасно занимали собой... Поселясь в Петербурге, Белинский начал ту многотрудную, работящую жизнь, которая продолжалась для него восемь лег сряду, почти без всякого перерыва, потрясла самый организм и заела его. На первых порах, после довольно долгого пребывания па квартире Панаева, он нанял себе помещение па Петербургской стороне по Большому проспекту, в красивом деревянном домике, с довольно просторной, но сырой и холодной комнатой и с небольшим кабинетом, жарко натопленным, где я и нашел его уже зимой 1840 года. Противоположность в температуре этих комнат не производила, по-видимому, особого действия на здоровье хозяина... Укрывшись в своем тропически-душном кабинете, Белинский весь отдался мысли и вел сурово уединенную, почти аскетическую жизнь, из которой по временам выходил в круг новых своих знакомых... Но вообще говоря, потребности в людях, в водовороте жизни, в поверке себя другими и всех - друг другом - Белинский тогда пе обнаруживал. Он обходился без всего этого по целым педелям. После погрома, испытанного его новой теорией, он уже дни и Ночи стоял перед письменным своим бюро... ...У Белинского взамен общества были тогда три постоянные, неразлучные собеседника, которых наслушаться вдоволь он почти уже и пе мог, именно: Пушкин, Гоголь и Лермонтов. О Пушкине говорить не будем: откровения его лирической поэзии, такой нежной, гуманной и вместе бодрой и мужественной, приводили Белинского в изумление, как волшебство или феноменальное явление природы. Он не отделался от обаяния Пушкина и тогда, когда, ослепленный творчеством Лермонтова, весь обратился к новому светилу поэзии и ждал от него переворота в самых понятиях о достоинстве и цели литературного призвания. При отъезде моем за границу в октябре 1840 года Белинский спросил, какие книги я беру с собой. "Странно вывозить книги из России в Германию", - отвечал я. "А Пушкина?" - "Не беру и Пушкина..." - "Лично для себя, я не понимаю возможности жить, да еще и в чужих краях, без Пушкина", - заметил Белинский. О втором его собеседнике - Гоголе - скажем сейчас несколько пояснительных слов. Но что касается отношений, образовавшихся между Белинским и третьим, самым поздним или самым новым и молодым его собеседником, - именно Лермонтовым, то они составляли такую крупную психическую подробность в жизни нашего критика, что о ней следует говорить особо. ...Белинский обладал способностью отзываться в самом пылу какого-либо философского или политического увлечения на замечательные литературные явления с авторитетом и властью человека, чувствующего настоящую свою силу и призвание свое. В эпоху шеллингианизма одною из таких далеко озаряющих вспышек была статья Белинского "О русской повести и повестях Гоголя", написанная вслед за выходом в свет двух книжек Гоголя: "Миргород" и "Арабески" (1835). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья эта вдобавок пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость по вдохновению, он осужден был выносить самые злостные и ядовитые нападки пе только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. Я лично знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как, озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. Московские знакомые и доброжелатели его покамест еще выражали в своем органе ("Московском наблюдателе")* сочувствие его творческим талантам весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себе право отдаваться вполне своим впечатлениям только наедине, келейно, в письмах, домашним образом. Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем неожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в "Телескопе" 1835 года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой- либо черты на основании ее сомнительной верности или необходимости для произведения, не одобрял другой, как полезной и приятной, - а, основываясь на сущности авторского таланта и на достоинстве его миросозерцания, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего великого писателя. Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя... Он благосклонно принял заметку статьи, а именно, что "чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя", и был доволен статьей - и более чем доволен, он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания того времени. С особенным вниманием остановился в ней Гоголь па определении качества истинного творчества, и раз, когда зашла речь о статье, перечитал вслух одно ее место: "Еще создание художника есть тайна для всех, еще он не брал пера в руки, - а уже видит их (образы) ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет и свяжет между собою..." - "Это совершенная истина, - заметил Гоголь, и тут же прибавил с по- лузастенчивой и полунасмешливой улыбкой, которая была ему свойственна: "только не понимаю, чем он (Белинский) после этого восхищается в повестях Полевого". Меткое замечание, попавшее прямо в больное место критика; но надо сказать, что, кроме участия романтизма в благожелательной оценке рассказов Полевого, была у Белинского и еще причина для нее. Белинский высоко ценил тогда заслуги знаменитого журналиста и глубоко соболезновал о насильственном прекращении его деятельности по изданию "Московского телеграфа"**; все это влияло на его суждение и о беллетристической карьере Полевого. * (В журнале "Московский наблюдатель" (это было до того, как журнал редактировал Белинский) главный его критик С. Шевырев при внешнем благожелательстве видел в Гоголе лишь автора "хохотливых повестей", литератора, "который хочет щекотать наши нервы", - тем самым совершенно упуская жизненный источник юмора Гоголя и принижая его произведения до уровня смешных, забавных анекдотов.) ** (Журнал Н. А. Полевого "Московский телеграф" был закрыт правительством в 1834 году за напечатание неодобрительного критического отзыва о казенно-патриотической драме Н. Кукольника "Рука Всевышнего отечество спасла", получившей одобрение царя.) Но решительное и восторженное слово было сказано, и сказано не наобум. ...Белинский освобождался от старого воззрения, так тщательно воспитанного им в себе, медленно, как от любви, хотя уже с половины 1840 года он не мог вспоминать и говорить без ужаса и отвращения о статье своей "Менцель", которою он открыл этот замечательный год своей жизни и которая была написана им еще в Москве (1839). Эстетические статьи... последовавшие за ней, были плодом уже петербургских его дум. На них еще лежит во многих местах отблеск старого направления, но с ними снова выходил на литературную арену замечательный критик в полном обладании своей мыслью и своим увлекательным словом. Проснулись все его способности, вся прирожденная ему сила литературной прозорливости. Статьи его были пе просто журнальными рецензиями, - они составляли почти события в литературном мире того времени. Все они устанавливали новые точки зрения на предметы, читались с жадностью, производили глубокое, неизгладимое впечатление на современную публику, па всех нас, какие бы оттенки прежних, не вполне покинутых убеждений еще ни встречались в них и как бы сам автор ни осуждал впоследствии некоторые из их положений и приговоров за излишний пыл и через меру высокий тон их. Белинский как критик-художник являлся действительно человеком власти и могущества, подчиняющим себе. Достаточно вспомнить для объяснения обаятельного действия всех его рецензий 1840 года, после "Менцеля", что в каждой из них происходила, так сказать, художническая анатомия данного произведения, открывалось его внутреннее строение с очевидностью и осязательностью, дававшими иногда совершенно одинаковое, а иногда еще и большее наслаждение, чем чтение самого оригинала. Это было восстановление произведения, только уже проведенного, так сказать, через душу и эстетическое чувство критика и получившего от соприкосновения с ними новую жизнь, большую свежесть и более глубокое выражение. Так, в художническо-эстетической критике 1840 года Белинский находил выход из опутавшего его философского догматизма. С этим направлением я его и оставил при моем отъезде за границу. Через несколько месяцев после его <Белинского> отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна; он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание*. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я - мы не были большие дипломаты; в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о Бородинской годовщине. Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: * (Встреча состоялась в августе 1840 года.) - Ну, слава богу, договорились же, а то я, с моим глупым нравом, не знал, как начать... Ваша взяла: три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого; там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? "Это автор статьи о бородинской годовщине?" - спросил его на ухо офицер. "Да". - "Нет, покорно благодарю", - сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть, - я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: вы благородный человек, я вас уважаю..." Чего же вам больше?  Н. А. Некрасов. Акварель М. Захарова. 1843 г. С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку. Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение... Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического воодушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, па полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих: "Родные люди вот какие" в "Онегине", чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о "Тарантасе"*, о "Параше"** Тургенева, о Державине, о Мочалове и "Гамлете"?*** Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем, так катаньем, не антикритикой, так доносом! Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог****, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие задушевные мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую анненской лентой*****. Как же они за то его и ненавидели!.. * ("Тарантас" - повесть известного в то время писателя В. А. Соллогуба (1814-1882).) ** (Поэма "Параша" - одно из ранних произведений И. С. Тургенева.) *** (Статья о Мочалове в роли Гамлета.) **** (Эклога - вид поэтического произведения, идеализирующего сельскую жизнь в сентиментальных разговорах пастушков с пастушками, господ с селянами.) ***** (То есть лентой одного из высших орденов того времени.) Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли "Отечественные записки"; тяжелый нумер рвали из рук в руки. "Есть Белинского статья?" - "Есть", - и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, уважений как не бывало. Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу... Я познакомился с Белинским в конце 1842 года, в С.-Петербурге. Он жил тогда в доме Лопатина у Аничкова моста... Я много слышал о нем и очень желал познакомиться с ним, хотя некоторые его статьи, написанные им в предыдущем (1841) году, возбудили во мне недоумение*. Я увидел человека небольшого роста, сутулового, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами и с тем суровым и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей; он заговорил и закашлял в одно и то же время, попросил нас сесть и сам торопливо сел на диване, бегая глазами по полу и перебирая табакерку в маленьких и красивых ручках. Одет он был в старый, но опрятный байковый сюртук, и в комнате его замечались следы любви к чистоте и порядку. Беседа началась. Сначала Белинский говорил довольно много и скоро, но без одушевления, без улыбки, как-то криво приподнимая верхнюю губу, покрытую подстриженным усом; он выражался общими, принятыми в то время в литературном кругу, местами, отозвался с пренебрежением о двух-трех известных лицах и изданиях, о которых и упоминать бы не стоило; но он понемногу оживился, поднял глаза, и все лицо его преобразилось. Прежнее суровое, почти болезненное выражение заменилось другим: открытым, оживленным и светлым; привлекательная улыбка заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту которых я только тогда и заметил. Белинский сам навел речь на то настроение, под влиянием которого он написал свои прошлогодние статьи, особенно одну из них, и, с безжалостной, преувеличенной резкостью осудив их, как дело прошлое и темное, беззастенчиво высказал перелом, совершившийся в его убеждениях. Я с намерением употребил слово: беззастенчиво. Белинский не ведал той ложной и мелкой щепетильности эгоистических натур, которые не в силах сознаться в том, что они ошиблись, потому что им их собственная непогрешимость и строгая последовательность поступков, часто основанные на отсутствии или бедности убеждений, дороже самой истины. Белинский был самолюбив, но себялюбия, но эгоизма в нем и следа не было; собственно себя он ставил ни во что; он, можно сказать, простодушно забывал о себе перед тем, что признавал за истину; он был живой человек - шел, падал, поднимался и опять шел вперед как живой человек. Спешу прибавить, что падал он только на пути умственного развития: других падений он не испытывал и испытать не мог, потому что нравственная чистота этого - как выражались его противники (где они теперь!) - "циника" была поистине изумительна и трогательна; знали о ней только близкие его друзья, которым была доступна внутренность храма... * (Имеются в виду статьи 1839-1840 гг. - периода "примирения с действительностью".) Должно сказать, что собственно блеску в его речах не было: он охотно повторял одни и те же шутки, не совсем даже замысловатые; но когда он был в ударе и умел сдерживать свои нервы (что ему не всегда удавалось: он иногда увлекался и кричал), не было возможно представить человека более красноречивого, в лучшем, в русском смысле этого слова; тут не было пи так называемых цветов, ни подготовленных эффектов, ни искусственного закипания, ни даже того опьянения собственным словом, которое иногда принимается и самим говорящим и слушателями за "настоящее дело", - это было неудержимое излияние нетерпеливого и порывистого, но светлого и здравого ума, согретого всем жаром чистого и страстного сердца и руководимого тем тонким и верным чутьем правды и красоты, которого почти ничем не заменишь. Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать центральной натурой: то есть он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути своего народа, а потому самые его недостатки, как, например, его малый запас познаний*, его неусидчивость и неохота к медленным трудам, получали характер как бы необходимости, имели значение историческое... Но это не мешало Белинскому сделаться одним из руководителей общественного сознания своего времени. Ибо, во-первых, он хотя и не был учен, знал, однако, довольно для того, чтоб иметь право говорить и наставлять других; а во-вторых, - он знал именно то, что нужно было знать, и это знание срослось у него с жизнью, как во всякой центральной натуре. * (С этим мнением Тургенева горячо полемизировал Гончаров.) В то самое время, когда в Белинском совершался внутренний переворот под влиянием Искандера*, - в Париже появился под редакциею Леру, Жорж Саида и Виардо** "Revue independante" ("Независимое обозрение"; франц.). Я принялся читать его с жадностью и, увлеченный статьями Леру, переводил их отрывками Белинскому. Перед этим Белинский прочел все романы Санда, которые были переведены (я перевел нарочно для него конец "Спиридиона"), и прежнее негодование его к Жорж Санд... заменилось в нем пламеннейшим энтузиазмом к ней... Он только и говорил о Жорж Санд и Леру. Увлечение его было так сильно, что он решил учиться по-французски, чтобы читать в подлиннике... * (Литературный псевдоним А. И. Герцена.) ** (Пьер Леру (1797-1871) - французский публицист, один из видных представителей утопического социализма, ученик и продолжатель Сеи-Симона, Жорж Саид (Аврора Дюдеван; 1804-1876) - выдающаяся французская писательница, на творчество которой идеи утопического социализма оказали большое влияние, Луи Виардо (1800-1883) - литературный критик и историк искусства - были соредакторами журнала утопических социалистов "Независимое обозрение".) Покуда Белинский осваивался понемногу и не без труда с французским языком... я начал составлять для него историю французской революции по Минье*, с прибавлением самых замечательных речей жирондистов и монтаньяров, которые я брал из "Histoire parlementaire de la revolution francaise" ("История парламента французской революции"; франц.). * (Минье Франсуа Огюст (1796-1884) - автор книги "История французской революции".) Белинский и многие наши приятели, не знавшие французского языка или мало знакомые с подробностями этой эпохи, сходились у меня каждую субботу, и я прочитывал им то, что успевал составить и перевести в течение недели. Для Белинского открывался новый мир, который до сих пор представлялся ему смутно, по рассказам... Он следил за чтением с лихорадочным любопытством; потрясенный до глубины, он прерывал чтение восторженными восклицаниями, беспрестанно вскакивал со стула в волнении и повторял несколько раз:  И. И. Панаев. Гравюра по рисунку неизвестного художника. 1840-е годы - Да! всему виною мое проклятое невежество. Если бы я знал все это прежде, я не написал бы этих безобразных статей, которые составляют несчастие моей жизни, лежат на мне неизгладимым пятном!.. Я считал себя счастливейшим человеком, видя, что способствовал моим переводом просветлению мыслей Белинского и расширению его кругозора... Все мои слушатели издали субботы, как праздника, и следили за моим чтением с напряженным вниманием. Маслов, не имевший до этого никакого понятия о французской революции, был поражен грандиозностью этой эпохи... Он и некоторые другие сделались отчаянными жирондистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров. Чтение оканчивалось обыкновенно жаркими спорами... Надо было видеть в эти минуты Белинского! Вся его благородная пламенная натура проявлялась тут во всем блеске, во всей его красоте, со всею своею бесконечною искренностию, со всей своей страшной энергией, приводившей иногда в трепет слабеньких поклонников Жиронды... Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном; он знал это и, желая скрыть, делал пресмешные вещи. Он являлся иногда на литературно-дипломатические вечера князя Одоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга; там бывали посольские чиновники... статские советники из образованных... полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы. А. Краевский домолчался там до того, что генералы принимали его за авторитет. Хозяйка дома с внутренней горестью смотрела на подлые вкусы своего мужа и уступала им... Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать... Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура! Да, это был сильный боен;! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, по когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, оп рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла*. Бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты! * (Белинский был болен неизлечимой в то время болезнью - чахоткой (легочным туберкулезом).) Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окруженный в Петербурге людьми мало симпатичными, снедаемый болезнью, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей. Часто, выбившись из сил, приходил он отдыхать к нам; лежа на полу с двухлетним ребенком, он играл с ним целые часы. Пока мы были втроем, дело шло как нельзя лучше, но при звуке колокольчика судорожная гримаса пробегала по лицу его, и он беспокойно оглядывался и искал шляпу; потом оставался, по славянской слабости. Тут одно слово, замечание, сказанное не по нем, приводило к самым оригинальным сценам и спорам. Раз приходит он обедать к одному литератору на страстной неделе; подают постные блюда. - Давно ли, - спрашивает он, - вы сделались так богомольны? - Мы едим, - отвечает литератор, - постное просто-напросто для людей*. * (То есть для примера своим крепостным слугам.) - Для людей? - спросил Белинский и побледнел. - Для людей! - повторил он и бросил свое место. - Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты; всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами! Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет людей! В числе закоснелейших немцев из русских был один магистр* нашего университета, недавно приехавший из Берлина; добрый человек в синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз па литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедовал какую-то чушь honnete et moderee (благопристойную и умеренную; франц.). Белинский лежал в углу на кушетке, и когда я проходил мимо, он меня взял за полу и сказал: * (Ученая степень.) - Слышал ли ты, что этот изверг врет? У меня давно язык чешется, да что-то грудь болит и народу много; будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь, - ну, утешь. Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс, я же этого господина почти по знаю, да едва слышал, что он говорит.  И. С. Тургенев. Акварель К. Горбунова. 1838-1839 годы К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом "Письме" Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным* тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами: * (Поучительным, не терпящим возражений.) - Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным*, гнусным, я не уважаю такого человека. * (Так тогда говорили: вместо "презренным".) В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым, это я... я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов* или неоткровенно? * (Из расчета. ) - Совсем нет, - отвечал магистр. На этом завязался неприятный разговор; я ему доказывал, что эпитеты "гнусный", "презрительный" - гнусны и презрительны, относясь к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться. Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне, уже бледный как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал: - Вот они высказались - инквизиторы, цензора - на веревочке мысли водить... - и пошел, и пошел. С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями. - Что за обидчивость такая?! палками бьют - не обижаемся, в Сибирь посылают - не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь - не смей говорить; речь - дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами? - В образованных странах, - сказал с неподражаемым самодовольством магистр, - есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают. Белинский вырос. Он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом: - А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным. Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове "гильотина" хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен, но именно в эти минуты самолюбие людское и закусывает удила. И. Тургенев советует человеку, когда он так затешется в споре, что самому делается страшно, провесть раз десять языком внутри рта, прежде чем вымолвить слово. Магистр, не зная этого домашнего средства, продолжал пороть вялые пустяки, обращаясь больше к другим, чем к Белинскому. - Несмотря на вашу нетерпимость, - сказал он наконец, - я уверен, что вы согласитесь с одним... - Нет! - отвечал Белинский, - что бы вы пи сказали, я не соглашусь ни с чем! Белинский часто начал прихварывать, очень тяготился своим одиночеством... Я посоветовала ему жениться, потому что видела в нем все задатки хорошего семьянина. Но Белинский мне на это отвечал: - А чем я буду кормить свою семью? Да и где я найду такую женщину, которая согласилась бы связать свою участь с таким бедняком, как я, да еще хворым? Нет, уж придется околеть одинокому!.. Раз Белинский пришел обедать к нам, и я так хорошо изучила его лицо, что сейчас же догадалась, что он в очень хорошем настроении духа, и не ошиблась, потому что он мне объявил, что получил утром письмо из Москвы от неизвестной ему особы, которая интересуется очень его литературной деятельностью. - Вот и моей особой заинтересовалась женщина, сказал Белинский... - Я никак не ожидал, чтобы мои статьи читали женщины; а по письму моей почитательницы я вижу, что она все их прочла. - Будете ей отвечать? - спросила я. - Непременно! Переписка Белинского с незнакомой ему особой очень заинтересовала его кружок; об этом толковали между собой его друзья и приставали к нему с расспросами. Я всегда догадывалась по лицу Белинского, когда он получал письмо из Москвы...  П. В. Анненков Рисунок К. Горбунова 1845 г. ...Белинский на неделю поехал в Москву с Лажечниковым, чтобы немного отдохнуть от работы. Он вернулся оттуда веселым, бодрым, так что все удивились, по я больше всех была поражена, когда Белинский мне сказал: - Я вас удивлю сейчас, я послушался вашего совета и женюсь!.. Не верите?.. Я ведь затем и поехал в Москву, чтобы все кончить там. Я догадалась, что невеста Белинского была та особа, с которой он долго переписывался. - Пожалуйста, только никому не выдавайте моего секрета, начнут приставать ко мне с расспросами... Как все приготовлю здесь, она приедет - на другой день повенчаемся. Я вас прошу закупить, что нужно для хозяйства, все самое дешевое и только самое необходимое. Мы оба пролетарии... Моя будущая жена не молоденькая и требований никаких не заявит... Строгость цензуры по временам делалась невыносима, отношения его Белинского к г. Краевскому с каждым днем тяжелее... Краевский сделал какую-то ничтожную прибавку к его плате после женитьбы, все еще ссылаясь на свое стесненное положение и на долги... - Боже мой, если бы я мог освободиться от этого человека, - говорил нам Белинский, - я был бы, мне кажется, счастливейшим смертным. Ходить мне к нему, любезничать, улыбаться в ту минуту, когда дрожишь от злобы и негодования, - это подлое лицемерие невыносимо для меня. А между тем что мне делать?.. где выход из этого положения?.. Если бы вы только могли вообразить, с каким ощущением я всякий раз иду к нему за своими собственными, трудовыми, в поте лица выработанными деньгами! С г. Краевским Белинский и все мы виделись редко. Оп усиливал себя быть с нами любезным, но впутренно, вероятно, мало питал к нам расположения и должен был чувствовать неловкость в нашем присутствии, сознавая, что мы видим его насквозь. Еще лучше всех нас он был с Боткиным, на которого иногда находили пароксизмы нежности даже и относительно Краевского. Краевский всех нас в душе своей считал мальчишками, по крайней мере это презрительное слово, говорят, вырывалось у него в минуты гнева против нас... И мы были действительно мальчишками; и первым мальчишкой из нас был Белинский. Не сознавая того, что Краевский держится только одною духовною силою его и его кружка, что без этой силы он, даже при пособии своих друзей... не мог бы продержаться более двух лет с своим журналом, - Белинский и все мы с чего-то воображали, наоборот, что мы зависим от г. Краевского, что нам нет без него спасения, и наперерыв друг перед другом, а некоторые совсем бескорыстно, употребляли все богом данные им способности для обогащения г. Краевского...  А. Я. Панаева. Акварель неизвестного художника. 1840-е годы В начале 40-х годов к числу сотрудников "Отечественных записок" присоединился Некрасов; некоторые его рецензии обратили на него внимание Белинского, и он познакомился с ним... С этих пор мы виделись чаще и чаще. Он <Некрасов> с каждым днем более сходился с Белинским, рассказывал свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов, и принес однажды Белинскому свое стихотворение "В дороге". Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за этот смелый, практический взгляд не по летам, который вынес оп из своей труженической и страдальческой жизни - и которому Белинский всегда мучительно завидовал. Некрасов пускался перед этим в издание разных мелких литературных сборников, которые постоянно приносили ему небольшой барыш. Но у него уже развивались в голове более обширные литературные предприятия, которые он сообщал Белинскому. Слушая его, Белинский дивился его сообразительности и сметливости и восклицал обыкновенно: - Некрасов пойдет далеко... Это не то, что мы... Оп наживет себе капиталец! Ни в одном из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента, и, преувеличивая его в Некрасове, он смотрел на него с каким-то особенным уважением. Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Некрасов навсегда останется не более, как полезным журнальным сотрудником, но когда он прочел ему свое стихотворение "В дороге" (1845), у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах: - Да знаете ли вы, что вы поэт - и поэт истинный! С этой минуты Некрасов еще более возвысился в глазах его... Его <Некрасова> стихотворение "Родина" привело Белинского в совершенный восторг. Он выучил его наизусть и послал его в Москву своим приятелям... У Белинского были эпохи, когда он особенно увлекался кем-нибудь из своих друзей... В эту эпоху он был увлечен Некрасовым и только и говорил об нем... Белинский привел его <Некрасова> к нам, чтобы он прочитал свои "Петербургские углы"*. Белинского ждали играть в преферанс его партнеры; приехавший из Москвы В. П. Боткин тоже сидел у нас. После рекомендации Некрасова мне и тем, кто его не знал, Белинский заторопил его, чтоб он начал чтение. Панаев уже встречался с Некрасовым где-то. * (Рассказ Некрасова; "углы" - убежища нищеты, "дно" в Петербурге того времени.) Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения; голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старее своих лет, манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опускал ее. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи. Белинский уже прочел "Петербургские углы", но слушал чтение с большим вниманием и посматривал на слушателей, желая знать, какое впечатление производит на них чтение. Я заметила, что реальность "Петербургских углов" коробит слушателей. По окончании чтения раздались похвалы автору. Белинский, расхаживая по комнате, сказал: - Да-с, господа! Литература обязана знакомить читателей со всеми сторонами нашей общественной жизни. Давно пора коснуться материальных вопросов жизни, ведь важную роль они играют в развитии общества... На другой день, за обедом у нас, у Белинского с Боткиным произошел горячий спор о Некрасове. Белинский возражал Боткину. 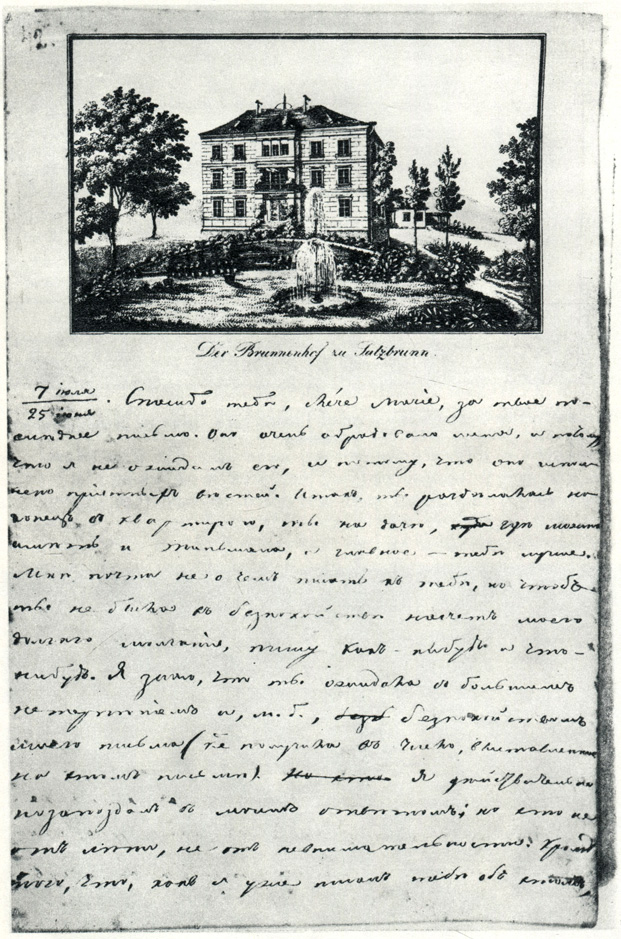 Автограф письма В. Г. Белинского к жене, М. В. Белинской, из Зальцбрунна - Здоров будет организм ребенка, если его питать одними сладостями? - говорил Белинский.- Наше общество еще находится в детстве, и если литература будет скрывать от него всю грубость, невежество и мрак, которые его окружают, то нечего и ждать прогресса. Когда коснулись низменной литературной деятельности Некрасова*, то Белинский на это ответил: * (Имеется в виду литературная "поденщина", которой Некрасов был вынужден заниматься для заработка: переделка французских водевилей, писание к ним куплетов, сотрудничество в различных мелких изданиях.) - Эх, господа! Вы вот радуетесь, что проголодались и с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода и у него черствого куска хлеба не было, чтобы заглушить эту боль!.. Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вот мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлыниваю, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, - ан нет! надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и физические силы на поденщине... Я дам голову па отсечение, что у Некрасова есть талант и, главное, знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся... Я беседовал с Некрасовым и убежден, что он будет иметь значение в литературе. У вас у всех есть недостаток: вам нужна внешняя сторона в человеке, чтобы вы протянули ему руку, а для меня главное - его внутренние качества. Хоть пруд пруди людьми с внешним-то лоском, да что пользы-то от них?! Панаев мечтал давно о путешествии за границу, тем более что его приятели, бывшие в Париже, описывали парижскую жизнь, как магометов рай... В то время все русские помещики, когда им нужны были деньги, закладывали в Опекунский совет своих мужиков*; то же сделал и Панаев для своей поездки за границу... * (При Опекунском совете имелась ссудная касса, выдававшая помещикам деньги под залог имений и крепостных крестьян.) ...Белинский, слушая толки о поездках за границу, сказала - Счастливцы, а нашему брату-батраку разве во сне придется видеть Европу! А что, господа, если бы какого-нибудь иностранного литератора переселить в мою шкуру хотя бы на месяц,- интересно было бы посмотреть, что бы он написал? Уж на что я привык под обухом писать, а и то иногда перо выпадет из рук от мучительного недоумения: как затемнить свою мысль, чтобы она избегла инквизиционной пытки цензора. Чуть увлечешься, распишешься, как вдруг известная тебе физиономия злорадно шепчет на ухо: "строчи, голубчик, строчи! как попадется мне корректура твоей статьи, я вот тут и поставлю красный крест и обезображу до неузнаваемости твою мысль". Злость берет, делаешь вопрос самому себе: и какой же ты писатель, что не смеешь ясно излагать свою мысль на бумаге? Лучше иди рубить дрова, таскай кули па пристани. После такого физического труда хоть спал бы мертвым сном, а после своей работы до изнеможения сил - ляжешь и целую ночь глаз не сомкнешь от разных скверных мыслей. Ведь, в самом деле, какую пользу можешь принести своим писаньем, если уподобляешься белке в клетке, скачущей на колесе... 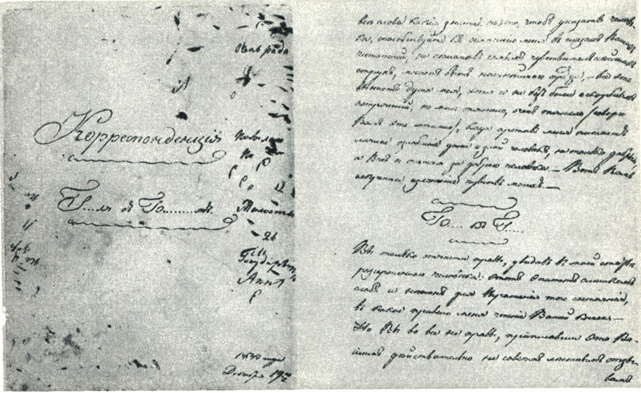 Письмо Гоголя Белинскому и ответ Белинского. Один из самых ранних списков ...Перед отъездом за границу Панаев находился в очень затруднительном положении с крепостной прислугой. Его люди энергически протестовали, когда он хотел дать им паспорт с тем, чтобы они шли на места, пока он будет находиться за границей; оброка с них он не требовал. Я упрашивала Панаева дать им всем волю... Панаев отпустил на волю всю свою прислугу. Белинский, узнав об этом, сказал Панаеву: - За это, Панаев, вам отпустится много грехов. Признаюсь вам, всякий раз, как ваш мрачный Андрей отворял мне дверь, я опускал свои глаза долу, чтоб не видеть его озлобленного, протестующего взгляда на свое рабство. В нашем кружке все считали крепостное право бесчеловечным, по относились к помещичьей власти пассивно, так как большинство состояло из помещиков. Впрочем, и в интеллигентном обществе России сороковых годов тоже преобладал элемент помещиков. Гуманные помещики старались не входить в близкие отношения с своими крепостными мужиками и имели дело с ними через посредство своих управляющих и старост. В кружке же писателей все были поглощены литературными интересами и общечеловеческими вопросами. Встречались и такие помещики в кружке, которые из гуманности своих воззрений считали долгом иметь непосредственные сношения со своими крепостными мужиками и жили в своих имениях, наезжая только зимой в Петербург. Один из таких гуманных помещиков бывал в кружке литераторов и всегда докторальным тоном ораторствовал о своих многотрудных обязанностях, о невежестве мужика и не без гордости рассказывал свои столкновения с губернской администрацией, которая вмешивалась в его помещичьи права и мешала ему в его предприятиях для блага своих крестьян. Раз гуманный помещик долго ораторствовал о своей борьбе с чиновниками и сказал: - Меня утешает одно, что на меня мои мужики смотрят, как на родного их отца, видя, что я пекусь о них, как о своих детях. - А я не верю в возможность человеческих отношений раба с рабовладельцем! - возразил Белинский. - Рабство такая бесчеловечная и безобразная вещь и такое имеет развращающее влияние на людей, что смешно слушать тех, кто идеальничает, стоя лицом к лицу с ним. Этот злокачественный нарыв в России похищает все лучшие силы для ее развития. Поверьте мне, как ни невежествен русский народ, но он отлично понимает, что для того, чтобы прекратить свои страдания, нужно вскрыть этот нарыв, очистить заражающий, скопившийся в нем гной. Конечно, может, наши внуки или правнуки будут свидетелями, как исчезнет этот злокачественный нарыв; или народ сам грубо проткнет его, или умелая рука сделает эту операцию. Когда это совершится, мои кости в земле от радости зашевелятся! Лицо Белинского имело при этом какое-то вдохновенное выражение. Гуманный помещик заметил ему: - Вы говорите о будущем, а я - о настоящем, и считаю себя более компетентным судьей, так как посвятил себя для защиты беспомощного мужика, находящегося в совершенно диком невежестве, иначе из него высосало бы всю кровь уездное крапивное семя*. * (Так называли судейских чиновников - крючкотворов и взяточников.) - А вы не высасываете пот и кровь из своих крепостных? Да что об этом толковать! Позорное рабство никакими красками не прикрасишь. Гуманный помещик разгорячился и возразил: - Сейчас видно, что вы, сидя в Петербурге, сплеча рубите все самые сложные общественные вопросы. Без подготовки нельзя дать свободу русскому мужику, - это все равно, что дать нож в руки ребенку, который едва умеет стоять на ногах, он сам себя порежет. - Пусть его порежется сам, лишь бы его не пытали другие, вырезывая по куску мяса из его тела да еще хвастая, что эту пытку делают для его же блага! Гуманный помещик быстро встал и дрожащим голосом сказал: - Вы сегодня в таком раздраженном состоянии, что с вами невозможно ни о чем говорить. Затем он взял шляпу, простился со всеми и ушел. По его уходе все набросились на Белинского, обвиняя его в резкости. В. П. Боткин начал читать Белинскому нотацию о приличии и уверял, что он не знает русского мужика так хорошо, как его знает гуманный помещик. Белинский расхаживал по комнате и вдруг, остановившись, произнес: "А глядишь, наш Лафайет, Брут или Фабриций Мужиков под пресс кладет Вместе с свекловицей!"* * (Из стихотворения Дениса Давыдова "Современная песня"; поэт называет исторических деятелей разных эпох.) - Давно меня мутило слушать этого краснобая-помещика, и я вовсе не сожалею, что оборвал его нахальное хвастовство. Пусть знает, что не всех можно дурачить! Светскости во мне нет, так нечего об этом и разговаривать, господа! В конце 1843 года Белинский, уже женатый, занимал небольшую квартиру на дворе дома Лопатина, которого лицевая сторона выходила на Аничкин мост и Невский проспект. В этом помещении Белинский предоставил себе три небольших комнаты, из коих одна, попросторнее, именовалась столовой, вторая за ней слыла гостиной и украшалась сафьяновым диваном с обязательными креслами вокруг него, а третья - нечто вроде глухого коридорчика об одном окне - предназначалась для его библиотеки и кабинета, что подтверждали шкаф у стены и письменный стол у окна. Впрочем, сам хозяин нисколько не подчинялся этому распределению: в столовой он постоянно работал и читал, а диван гостиной служил ему большею частию ложем при частых его недугах; в кабинет он заглядывал только для того, чтоб достать из шкафа нужную книгу. Две задние комнаты занимала его семья, умножившаяся вскоре дочерью Ольгою. Ребенок этот, а потом сын, проживший недолго и унесший с собою в могилу последние силы отца*, да еще цветы на окнах составляли тогда предмет его ухаживаний, забот и нежнейших попечений. Они одни были его жизнью, которая начинала ужо убегать от него и угасать понемногу. Вскоре ему уже предписано было носить респиратор** при выходе на воздух, и он шутливо говорил мне: "Вот какой я богач сделался! Максим Петрович у Грибоедова*** едал на золоте, а я дышу через золото: это будет еще поважнее, кажется!" Часто заставал я его на диване гостиной в совершенном изнеможении, особенно после усиленных трудов за срочной статьей, оставлявших его с головной болью и в лихорадке. Надо сказать, впрочем, что он очень скоро поправлялся после этих пароксизмов****, поддерживаемый тем напряженным состоянием духа и воли, которое уже не покидало его с 1842 года и которое, поднимая его часто с одра болезни и давая ему обманчивый вид человека, исполненного жизни и энергии, разрушало в то же время и последние основы его страдающего организма. * (Сын Владимир родился в ноябре 1846 и умер в марте 1847 года.) ** (Аппарат для облегчения дыхания.) *** (В комедии "Горе от ума".) **** (Приступов, обострения, в данном случае болезни.) Возбужденное состояние сделалось, наконец, нормальным состоянием его духа. Почти ни минуты покоя и отдыха не знала его нравственная природа до тех пор, пока болезнь окончательно не сломила его. Самые тихие, дружеские беседы чередовались у него с порывами гнева и негодования, которые могли быть вызваны первым анекдотом из насущной жизни или даже рассказом о каком-либо диком обычае иной, очень далекой страны. По действию воображения и представительной способности, развитых у него неимоверно, он переносил ненависть на лица, уже отошедшие в область истории, на давно минувшие события, почему-либо возмущавшие его. У него было множество врагов и предметов злобы как в современном мире, так и в царстве теней, о которых он равнодушно говорить не мог. Объективных, то есть, попросту сказать, индифферентных*, отношений к историческим деятелям или важным фактам истории вовсе и не знала эта страстная природа. Белинский превращался как будто в современника различных эпох, на которых натыкался в чтении, выбирал сторону, которую следовало защищать, и боролся с противной стороной, уже давно замолкшей, так, как будто она сейчас нарушила его нравственный покой и убеждения. Нечто подобное, в обратном смысле, происходило и с предметами его симпатий, которые он отыскивал в разных веках и у разных народов: он влюблялся в героев своей мысли, вскакивал с места при одном их имени и нередко защищал их от современной критики до последней возможности. Он неохотно расставался со своими друзьями... * (Безразличных.) Можно себе представить, что происходило, когда Белинский... натыкался на живое, современное лицо, стоявшее перед ним воочию, с каким-либо ограниченным пониманием серьезного предмета или с какой-либо тупой и обскурантной* теорией. В то время вообще не умели различать человека от его слова и суждения и думали, что они неизбежно составляют одно и то же. Всех менее допускал это различие Белинский, и громовые его обличения в подобных случаях разрывали все связи с оппонентом и не оставляли никакой надежды на возобновление их в будущем... * (Враждебный просвещению, прогрессу.) Понятно, что в таком же напряженном состоянии духа происходило и его чтение, даже и тогда, когда обращалось на предметы ученого и отвлеченного содержания. Мы уже упомянули, что в этот период его жизни оно - чтение это - все прогрессивно разрасталось в сторону экономических и политических вопросов. Такой манеры чтения, какую усвоил себе Белинский, достаточно было, чтобы надсадить и более сильный организм. К книге, к статье, любому чтению и мнению, начиная от самых добросовестных трактатов, захватывающих глубочайшие интересы общества и человечества, и кончая самыми ничтожными произведениями русской словесности, Белинский всегда относился более чем серьезно, относился страстно, допытываясь психических причин их появления, создавая им генеалогию, разбирая одну по одной черты их нравственной физиономии. Поводов для восторгов и вспышек гнева находилось тут множество. Сколько раз случалось нам заставать его - после оконченной книги, статьи, главы - расхаживающим вдоль трех своих комнат со всеми признаками необычайного волнения. Он тотчас же принимался передавать свои впечатления от чтения в горячей, ничем не стесненной импровизации. Я находил, что эта импровизация еще лучше его статей, по статьи в таком тоне и не пишутся, да и писаться не могут. Если судить по количеству и массе ощущений, порывов и мыслей, какие переживал этот замечательный человек каждый день, то можно назвать его коротенькую жизнь, так быстро сгоревшую на наших глазах, достаточно продолжительной и полной. К тому следует прибавить, что Белинский так врастался, смеем выразиться, в авторов, которых изучал, что постоянно открывал их затаенную, невысказанную мысль, поправлял их, когда они изменяли ей или нарочно затемняли ее, и выдавал их последнее слово, которое они боялись или не хотели произнести. Этого рода обличения были самой сильной стороной его критики. ...Нам тогда было по двадцати с лишним лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц тысяча восемьсот сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг "Бедных людей", мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я пе имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки "Петербургские шарманщики" в один сборник. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: "Принесите рукопись (сам он еще не читал ее): Некрасов хочет к будущему году сборник издать*, я ему покажу". Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой "партии "Отечественных записок", как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным, и - "осмеет он моих- "Бедных людей"!" - думалось мне тогда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами - "неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, - все это ложь, мираж, неверное чувство?" Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о "Мертвых душах" и читали их в который раз, не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: "А не почитать ли нам, господа, Гоголя!" - садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую, как днем, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: "С десяти страниц видно будет". Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. "Читает он про смерть студента, - передавал мне потом уже наедине Григорович, - и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: "Ах, чтоб его!" Это про вас-то, и этак мы всю ночь". Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: "Что ж такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна!" Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так по крайней мере он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о "тогдашнем положении", разумеется и о Гоголе, цитуя из "Ревизора" и из "Мертвых душ", но, главное, о Белинском. "Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, - да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!" - восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. "Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!" Точно я мог заснуть после их! Какой восторг, какой успех, а главное - чувство было дорого, помню ясно: "У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо!" Вот что я думал, какой тут сон! * (Имеется в виду знаменитый "Петербургский сборник", собравший свежие силы литературы того времени, выросшие под воздействием Гоголя и Белинского.) Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день... Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его просто в волнении. "Приведите, приведите его скорее!"  Н. А. Некрасов и И. И. Панаев у постели больного В. Г. Белинского. Картина А. Наумова. 1884 г И вот (это, стало быть, уже па третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим, "этого ужасного, этого страшного критика". Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. "Что ж, оно так и надо", - подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые хотел он мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: "Да вы понимаете ль сами-тэ, - повторял он мне несколько раз и вскрикивая, по своему обыкновению, - что это вы такое написали!" Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. "Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник - ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей - он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть "их превосходительство", не его превосходительство, а "их превосходительство", как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, - да ведь тут же не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!.." Все это он тогда говорил мне. Все он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель)... ...Его небольшая квартира у Аничкова моста, в доме Лопатина, в которой он прожил, кажется, с 1842 по 1845* год, отличалась, сравнительно с другими его квартирами, веселостию и уютностию. Эта квартира и ему нравилась более прежних. С нею сопряжено много литературных воспоминаний. Здесь Гончаров несколько вечеров сряду читал Белинскому свою "Обыкновенную историю". Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым. Надобно сказать, что Гончаров, зная близкие сношения Языкова с Белинским, передал рукопись "Обыкновенной истории" Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел предварительно и решил, стоит ли передавать ее? Языков с год держал ее у себя, развернул ее однажды (по его собственному признанию), прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: "кажется, плоховато, пе стоит печатать". Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам. * (Белинский жил в этой квартире до апреля 1846 г.) Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил: - Ну что, Языков, ведь плохое произведение - не стоит его печатать?.. Открытее, искреннее и прямее Белинского я не знал никого. Он сам признавался не раз: - Что делать? Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить - это не в моей натуре... Вообще открытие всякого нового таланта было для него праздником. С половины 1845 г. мысль покинуть "Отечественные записки" не оставляла Белинского, в чем его особенно поддерживал Н. А. Некрасов с практической точки зрения. Действительно, материальное положение Белинского год от году становилось все хуже и никакого выхода не представляло ни с какой стороны. Силы его слабели, семья требовала увеличенных средств существования, а в случае катастрофы, которую он уже-предвидел, оставалась без куска хлеба. Может быть, никто из наших писателей не находился в положении, более схожем с положением тогдашнего работника и пролетария в Европе... С каждым днем Белинский все более и более убеждался, что чем сильнее станет он напрягать свою деятельность и чем блестящее будут оказываться ее результаты в литературном и общественном смысле, тем хуже будет становиться его положение ввиду неизбежного истощения творческого материала и уничтожения самой способности к труду вследствие его удвоенной энергии. Будущность представлялась ему, таким образом, в очень мрачных красках, и с половины 1845 г. мы слышали горькие жалобы его на свою судьбу, жалобы, в которых он не щадил и самого себя: "Да что же и делать судьбе этой, - говорил оп в заключение, - с глупым человеком, которому ничего впрок не пошло, что она ему ни давала..." ...Вот в чем дело. Я твердо решился оставить "Отечественные записки" и их благородного, бескорыстного владельца. Это желание давно уже было моею idee fixe (навязчивая идея; лат.); но я все надеялся выполнить его чудесным способом, благодаря моей фантазии, которая у меня услужлива не менее фантазии г. Манилова, и надеждам на богатых земли. Теперь я увидел ясно, что все это вздор и что надо прибегнуть к средствам, более обыкновенным, более трудным, но зато и более действительным. Но прежде о причинах, а потом уже о средствах. Журнальная срочная работа высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь. Обыкновенно я недели две в месяц работаю с страшным, лихорадочным напряжением до того, что пальцы деревенеют и отказываются держать перо; другие две недели я, словно с похмелья после двухнедельной оргии, праздно шатаюсь и считаю за труд прочесть даже роман. Способности мои тупеют, особенно память, страшно заваленная грязью и сором российской словесности. Но труд мне не опротивел. Я больной писал большую статью "О жизни и сочинениях Кольцова" - и работал с наслаждением; в другое время я в 3 недели чуть не изготовил к печати целой книги, и эта работа была мне сладка, сделала меня веселым, довольным и бодрым духом. Стало быть, мне невыносима и вредна только срочная журнальная работа - она тупит мою голову, разрушает здоровье, искажает характер, и без того брюзгливый и мелочно-раздражительный. Всякий другой труд не официальный, не ex officio, был мне отраден и полезен. Вот первая и главная причина. Вторая - с г. Краевским невозможно иметь дела. Это, может быть, очень хороший человек, но он приобретатель, следовательно, вампир, всегда готовый высосать из человека кровь и душу, потом бросить его за окно, как выжатый лимон. До меня дошли слухи, что оп жалуется, что я мало работаю, что он выдает себя за моего благодетеля, который из великодушия держит меня, когда уже я ему и не нужен. Еще год назад тому он (узнал я недавно из верного источника) в интимном кругу приобретателей сказал: "Белинский выписался, и мне пора его прогнать". Я живу вперед забираемыми у него деньгами, - и ясно вижу, что он не хочет мне их давать: значит, хочет от меня отделаться. Мне во что бы то ни стало надо упредить его. Не говоря уже о том, что с таким человеком мне нельзя иметь дела, не хочется и дать ему над собою и внешнего торжества, хочется дать ему заметить, что-де бог не выдаст, свинья не съест. В журнале его я играю теперь довольно пошлую роль: ругаю Булгарина, этою самою бранью намекаю, что Краевский - прекрасный человек, герой добродетели. Служить орудием подлецу для достижения его подлых целей и ругать другого подлеца не во имя истины и добра, а в качестве холопа подлеца № 1, - это гадко. "Петербургский сборник", изданный Некрасовым, быстро разошелся, и он очень сожалел, что не рискнул напечатать его в большом числе экземпляров. Белинский очень радовался, что благодаря этому Некрасов может освободиться на несколько месяцев от поденщины и писать стихи. Я спросила Белинского, почему он также не издаст подобного сборника, что, наверное, все московские и петербургские писатели, его друзья, с готовностью дадут материал для его издания. - Вот что придумали, - отвечал Белинский, - разве я способен на такие дела? тут надо уменье; без кредита, типографии и бумаги нельзя приступить к делу, надо вести с разными лицами разговоры и коммерческие переговоры. Я вот до сих пор пе сумел и с одним-то сладить, чтобы за свой труд получить прибавку в месяц. Да и я буду мучеником от мысли: вдруг издание не окупится и у меня на шее очутятся долги. Благодарю покорно, недоставало еще, чтобы я испытал эту пытку. Кому что на роду написано, то и будет; мне, вероятно, выпала доля весь век остаться батраком в литературе и работать на хозяев, чтобы они разживались да и подсмеивались надо мной: ишь какой вахлак - жарит каштаны, а мы у него из-под носу тащим, оставляем ему одну шелуху. Однако я сказала Некрасову: почему бы Белинскому тоже не заняться изданием книги? Некрасов горячо ухватился за эту мысль, стал уговаривать Белинского, долго его уламывал, наконец уломал. Я догадывалась, что Белинскому не хотелось обращаться к своим приятелям за одолжением лично себе, для других же оп охотно это делал. Некрасов взял на себя все хлопоты по изданию и переговоры о кредите. - Ну, смотрите, Некрасов, если только окажутся у меня долги от этого издания, то я вас прокляну; умирать буду, но не прощу вас. Некрасов предлагал, что будет кредитоваться на свое имя в типографии и за бумагу,- так он уверен, что убытка не будет. Белинский верил, как он выражался, в "спекулятивную жилку Некрасова" и заметно приободрился, когда получил известие из Москвы, что все пишущие его приятели с радостию дадут ему статьи*. Некрасов подбивал Белинского издать книгу как можно объемистее и придумал уже название: "Альманах Левиафан"**. Раз, находясь у нас, Некрасов высчитывал расходы по изданию альманаха, а Белинский расхаживал по комнате и слушал; когда же Некрасов высчитал, сколько за всеми расходами может остаться барыша, Белинский остановился и воскликнул: * ("Статьей", так же как и "пьесой", называли в то время произведения различных жанров.) ** (По библейскому преданию, огромное морское чудище; вообще нечто огромное.) - Да я буду Крез!..* О, тогда, имея обеспеченное существование на год, я не позволю себя держать в черном теле, предложу свои условия. - Не угодно? Прощайте! Господи, да неужели настанет такая счастливая минута в моей жизни, что я брошу с себя ярмо батрака! * (Обладатель несметных богатств (по имени царя Лидии).) Белинский уже торопил Панаева засесть за повесть для его альманаха, говоря: - Полно вам шляться без дела, пишите. Не забудьте, весь материал мне нужен к началу сентября, надо, чтобы не было задержки в типографии. Боюсь, чтобы в Москве не было задержки, здесь-то я вас всех, как школьников, засажу работать, а там, за глазами, начнут откладывать, завтра да завтра, и выйдет задержка. Белинский уже волновался, и когда Тургенев уезжал в деревню, то говорил ему: - Вы уж, пожалуйста, это лето не увлекайтесь так охотой, а пишите, чтобы рассказ ваш не был с куриный носок, напишите как следует: слава богу, времени у вас будет много, достаточно пошалберничали в Петербурге... Ах, если б вас всех судьба посадила в мою шкуру! Он рассмеялся от мысли, что было бы с ними. - Сознайтесь, господа, - продолжал Белинский, - что если бы хорошенько вас засадили за работу, то вы прокляли бы всю литературу. Испробуйте-ка хоть на короткое время - я поеду за вас в деревню, а вы останетесь в Петербурге, да работайте за меня, а я буду наслаждаться и пописывать, как дилетант. Панаев хлопотал, чтобы набрать побольше петербургских литераторов, которые дали бы свои статьи в альманах Белинского, и с радостью объявлял, получив от кого-нибудь из них обещание... ...Белинский и Панаев сильно уверовали в литературную предприимчивость Некрасова после изданного им "Петербургского сборника", который быстро раскупался. Оба они знали, с какими ничтожными деньгами он предпринял это издание и как сумел извернуться и добыть кредит. - Если бы у меня были деньги, - произнес со вздохом Панаев, - я ни минуты не задумался бы издавать журнал вместе с Некрасовым. Один я не способен на такое хлопотливое дело, а тем более вести хозяйственную часть. - Была бы охота, а деньги у тебя есть! - сказала я, не придавая никакого серьезного значения своим словам. - Какие деньги? - спросил с удивлением меня Панаев. - Продай лес и на эти деньги издавай журнал. Толстые подхватили мои слова и стали приставать к Панаеву, почему бы ему в самом деле не употребить деньги на хорошее дело*. * (Панаевы вместе с Некрасовым гостили в это время в Казанской губернии у Г. П. Толстого. По-видимому, эта поездка была связана с задуманным журналом.) - Не увидите, как проживете их, - говорили они. - Нет, нет, - возразил Панаев, - эти деньги, по вашему же совету, я внесу в Опекунский совет, чтобы не так тяжело было бы платить проценты за заложенное имение. Пока у него не было денег в руках, он всегда благоразумно рассуждал об экономии. - Разрешите Панаеву употребить деньги, вырученные за продажу леса, на журнал, как на дело хорошее? - обратился ко мне Толстой. - Охотно! - отвечала я. - Так, господа, по рукам! - воскликнули Толстые. - Разве хватит таких денег? - обратился Панаев с вопросом к Некрасову. - Хватит! Хватит! - ответил тот. - Кредитоваться будем. Панаев протянул руку Некрасову и произнес: - Идет! Будем вместе издавать. Мы засиделись почти до рассвета, ведя разговоры о новом журнале. Возник вопрос, у кого купить право, так как новых журналов в то время не разрешали издавать. Перебирали разные журналы, которые находились в летаргическом сне, но ни один не оказывался подходящим. Уже стали прощаться, чтобы идти спать, как вдруг Панаев воскликнул: - Нашел! "Современник"! Некрасов радостно сказал: - Чего же лучше! как это сразу не пришел нам в голову "Современник"? И снова затянулся разговор. Право на "Современник" принадлежало П. А. Плетневу, с которым Панаев давно был знаком... Некрасов решил ехать скорее в Петербург, чтобы переговорить с Белинским и начать хлопоты по журналу... Панаеву же надо было дожидаться денег от продажи леса. Уезжая из деревни, Некрасов просил Панаева не засиживаться в Москве* и не проболтаться о затеваемом деле. * (На обратном пути в Петербург.) Однако мы прожили в Москве с неделю; от Белинского Панаев получил письмо, где он делал ему строгий выговор за то, что он бьет баклуши в Москве, когда нужно скорее дело делать. Белинский боялся, чтобы Панаев по своей барской привычке не истратил деньги на пустяки. Он убеждал его быть экономным, брать пример с Некрасова, который всецело отдался делу. Белинский писал, что ему иногда не верится, что издание журнала не сон, а действительность, что он ожил и снова почувствовал рвение к работе. "Скорей, скорей приезжайте в Петербург, - писал Белинский, - и сейчас же поезжайте к Плетневу. Так и знайте, Панаев, что, если вы по своей ветрености не приобретете от Плетнева "Современника", я вас прокляну! Я ночи не сплю от страха: ну, если кто-нибудь уже купил у Плетнева право на "Современник"! Легко может случиться, что кому-нибудь другому также пришла мысль издавать журнал. Конечно, "Современник" единственный журнал, который самый подходящий по своей литературной репутации. Пока не покончите с Плетневым, до тех пор не буду спать спокойно. Я так напуган всякими скверностями, какие проделывает со мной моя мачеха-судьба, что мне все кажется: какая-нибудь каверза подвернется и все дело пропадет!.. Дрожь пробирает меня, когда подобная мысль приходит мне в голову. Вы ведь не можете понять, что значило бы для меня теперь расстаться с надеждой работать для "Современника". Белинский встретил Панаева в день приезда из Москвы со словами: - Черт вас знает, зачем вы застряли в Москве. Завтра же отправляетесь к Плетневу! - Да-с, - самодовольно улыбаясь, говорил Белинский, - и на нашей улице будет праздник! Просветлела моя жизнь, точно тяжелый камень сняли у меня с груди. Теперь я опять почувствовал энергию к работе, в моей голове снова прояснилось, а то она будто была набита рубленой соломой. - Нет, хороши московские приятели! - заметил Белинский, когда зашла речь о Москве. - Хоть бы один исполнил свое обещание, что по возвращении моем в Москву с Щепкиным* они мне вручат свои рукописи для моего альманаха. Ну, хорошо, что подоспел "Современник", а то словно они меня прихлопнули бы. Добро бы, люди занятые, а то сидят сложа руки. Нет, с такими людьми поговорить приятно, но дело с ними иметь беда! * (Белинский летом и осенью 1846 года вместе с великим актером М. С. Щепкиным (совершавшим гастрольную поездку) ездил на юг (в Одессу, Симферополь и Севастополь), надеясь, что это поправит его здоровье. Однако эти надежды не сбылись. Правда, Белинский писал, что едет он "не только за здоровьем, но и за жизнью". И действительно, за эти полгода перед глазами его прошла почти вся Россия.) Некрасов купил для "Современника" у Белинского все статьи, обещанные ему его московскими и петербургскими приятелями. За сотрудничество Белинского в "Современнике" была положена плата восемь тысяч рублей в год. ...я был неожиданно оторван очень печальным известием из России*. В. П. Боткин писал мне, что Белинский становится плох и приговорен докторами к поездке за границу, именно на воды Зальцбрунна в Силезии, начинавшие славиться своими целебными качествами против болезней легких. Друзья составили между собой подписку для отправления туда больного; к участию в подписке приглашал меня и Боткин. Я отвечал, что приеду сам в Зальцбрунн и надеюсь быть полезнее Белинскому этим способом, чем каким-либо другим. Точно такое же решение принял и И. С. Тургенев, находившийся тогда в Берлине. Он немедленно отправился навстречу неопытного вояжера**, мало разумевшего по-немецки и никогда еще не покидавшего своей родины, в Штеттин, где и принял его под свое покровительство***. Оба они и прибыли через Берлин в Обер-Зальцбрунн, поселясь в чистом деревянном домике с уютным двориком на главной, но далеко не блестящей улице бедного еще городка. * (П. В. Анненков находился в это время за границей, жил в одном из тихих уголков Парижа.) ** (Путешественника.) *** (Неточность: Тургенев встретил Белинского лишь в Берлине.) Итак, оторвавшись от всех связей в Париже и отложив на будущее время планы разных путешествий, я направился в июне 1847 г. в Зальцбрунн. Переночевав в Бреславле, я на другой день рано очутился в неизвестном мне местечке и на первых же шагах по какой-то длинной улице встретил Тургенева и Белинского, возвращавшихся с вод Домой... Я едва узнал Белинского. В длинном сюртуке, в картузе с прямым козырьком и с толстой палкой в руке передо мной стоял старик, который по временам, словно заставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлял себя, стараясь придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли: он представлял из себя очевидно организм, разрушенный наполовину. Лицо его сделалось бело и гладко, как фарфор и ни одной здоровой морщины на нем, которая бы говорила об упорной борьбе, выдерживаемой человеком с наплывающими на него годами. Страшная худоба и глухой звук голоса довершали впечатление, которое я старался скрыть, сколько мог, усиливаясь сообщить развязный и равнодушный вид нашей встрече. Белинский, кажется, заметил подлог. "Перенесли ли ваши вещи к нам в дом?" - проговорил он торопливо и как-то сконфуженно, направляясь к дому. Вещи были перенесены; я поселился во втором этажике квартиры, и начался длинный, томительный месяц безнадежного лечения, о котором старый широколицый, приземистый доктор Зальцбрунна уже составил себе, кажется, понятие с первого же дня. На все мои расспросы о состоянии больного, о надеждах на улучшение его здоровья он постоянно отвечал одной и той же фразой: "Да, ваш приятель очень болен". Более новой или объясняющей мысли я так от него и не добился. Каждое утро Белинский рано уходил на воды и, возвратясь домой, поднимался во второй этаж и будил меня всегда одними и теми же словами: "Проснися, сибарит"*. У него были любимые слова и поговорки, к которым привыкал и которых долго не менял, пока не обретались новые, обязанные тоже прослужить порядочный срок. Так, все свои довольно частые споры с Тургеневым он обыкновенно начинал словами: "Мальчик, берегитесь - я вас в угол поставлю". Было что-то добродушное в этих прибаутках, походивших на детскую ласку. "Мальчик Тургенев", однако же, высказывал ему подчас очень жесткие истины, особенно по отношению к неумению Белинского обращаться с жизнию и к его непониманию первых реальных ее основ. Белинский становился тогда серьезен и начинал разбирать психические и бытовые условия, мешающие иногда полному развитию людей, хотя бы они и имели все необходимые качества для развития; однако же многие слова Тургенева, как я заметил после, западали ему в душу, и он обсуждал их еще и про себя некоторое время. Как ни оживленны были по временам беседы наши, особенно когда дело касалось личностей и физиономий, оставленных по ту сторону немецкой границы, но они все-таки не могли наполнить целого летнего монотонного дня, и притом в городке, лишенном всякого интеллектуального интереса. * (Человек, живущий в роскоши и праздности.) ...Тургенев не мог выдерживать этого режима. Он сперва нашел выход из него, принявшись за продолжение "Записок охотника", начало которых появилось несколькими месяцами ранее и впервые познакомило его со вкусом полного, литературного и популярного успеха. Он написал в Зальцбрунне своего замечательного "Бурмистра", который понравился и Белинскому, выслушавшему весь рассказ с вниманием и сказавшему только о Пеночкине: "Что за мерзавец - с тонкими вкусами!" Но затем Тургенев уже не мог долее насиловать свою подвижную природу и однажды, после получения почты, объявил нам, что уезжает на короткое время в Берлин - проститься с знакомыми, отъезжающими в Англию, но что, проводив их, снова вернется в Зальцбрунн. Он оставил даже часть вещей на квартире. В Зальцбрунн он не возвратился, вещи его мы перевезли с собой в Париж, сам он чуть ли не побывал за это время в Лондоне. Белинский явился мне в эти дни долгих бесед и каждочасного обмена мыслей совершенно в новом свете. Страстная его натура, как ни была уже надорвана мучительным недугом, еще далеко не походила на потухший вулкан. Огонь все тлился у Белинского под корой наружного спокойствия и пробегал иногда по всему организму его. Правда, Белинский начинал уже бояться самого себя, бояться тех еще не порабощенных сил, которые в нем жили и могли при случае, вырвавшись наружу, уничтожить зараз все плоды прилежного лечения. Он принимал меры против своей впечатлительности. Сколько раз случалось мне видеть, как Белинский, молча и с болезненным выражением на лице, опрокидывался на спинку дивана или кресла, когда полученное им ощущение сильно въедалось в его душу, а он считал нужным оторваться или освободиться от него. Минуты эти походили на особый вид душевного страдания, присоединенного к физическому, и не скоро проходили: мучительное выражение довольно долго не покидало его лица после них. Можно было ожидать, что, несмотря на все предосторожности, наступит такое мгновение, когда он не справится с собой, - и действительно, такое мгновение наступило для него в конце нашего пребывания в Зальцбрунне. Надо знать, чем был за полгода до своей смерти Белинский, чтобы понять весь пафос этого мгновения, имевшего весьма важные последствия и от дальнейших и окончательных результатов которого освободила его только смерть. Я подразумеваю здесь известное его письмо к Гоголю, много потерявшее теперь из первоначальных своих красок, но в свое время раздавшееся по интеллектуальной России как трубный глас... ...книга Гоголя "Переписка с друзьями" была вся, как известно, проникнута духом недоверчивости и наглого презрения к современному движению умов, которое еще и плохо понимала. Вдобавок, она могла служить и тормозом для возникавших тогда в России планов крестьянской реформы... Негодование, возбужденное ею у Белинского долго жило в скрытном виде в его сердце, так как он не мог излить его вполне в печатной оценке произведения по условиям тогдашней цензуры*, а потому, лишь представился ему случай к свободному слову, - оно потекло огненной лавой гнева, упреков и обличений... * (Несмотря на то что свою рецензию для "Современника" на книгу Гоголя "Выбранные места из переписки с друзьями" Белинский был вынужден писать с оглядкой на цензуру, она сверх того была искажена правкой официального редактора журнала А. Никитенко и той же цензурой. Белинский писал по этому поводу Боткину: "Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкой, вертеть хвостом по-лисьи... Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти хороша, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству".) Приближалось время окончания лечебного курса и нашего отъезда из Зальцбрунна. Белинский чувствовал себя гораздо лучше, кашель уменьшился, ночи сделались покойнее, - он уже поговаривал о скуке житья в захолустье. Почти накануне нашего выезда из Зальцбрунна в Париж я получил неожиданное письмо от Н. В. Гоголя, извещавшего, что изданная им "Переписка с друзьями" наделала ему много неприятностей, что он не ожидает от меня благоприятного отзыва о его книге, но все- таки желал бы знать настоящее мое мнение о ней, как от человека, кажется, не страдающего заносчивостью и самообожанием... В конце письма Гоголь неожиданно вспоминал о Белинском и кстати посылал ему дружеский поклон, вместе с письмом прямо на его имя, в котором упрекал его за сердитый разбор "Переписки" во 2-м № "Современника". Это и вызвало то знаменитое письмо Белинского о его последнем направлении, какого Гоголь еще и не выслушивал доселе, несмотря на множество перьев, занимавшихся разоблачением недостатков "Переписки", попреками и бранью на ее автора. Когда я стал читать вслух письмо Гоголя, Белинский слушал его совершенно безучастно и рассеянно, но, пробежав строки Гоголя к нему самому, Белинский вспыхнул и промолвил: "А, он не понимает, за что люди на него сердятся, - надо растолковать ему это - я буду ему отвечать". Он понял вызов Гоголя. В тот же день небольшая комната рядом с спальней Белинского, которая снабжена была диванчиком по одной стене и круглым столом перед ним, на котором мы свершали наши довольно скучные послеобеденные упражнения в пикет*, превратилась в письменный кабинет. На круглом столе явилась чернильница, бумага, и Белинский принялся за письмо к Гоголю, как за работу, и с тем же пылом, с каким производил свои срочные журнальные статьи в Петербурге. То была именно статья, но писанная под другим небом... * (Одна из карточных игр.) Три дня сряду Белинский уже не поднимался, возвращаясь с вод домой, в мезонин моей комнаты, а проходил прямо в свой импровизированный кабинет. Все это время он был молчалив и сосредоточен. Каждое утро после обязательной чашки кофе, ждавшей его в кабинете, он надевал летний сюртук, садился па диванчик и наклонялся к столу. Занятия длились до часового нашего обеда, после которого он не работал. Не покажется удивительным, что он употребил три утра на составление письма к Гоголю, если прибавить, что он часто отрывался от работы, сильно взволнованный ею, и отдыхал от нее, опрокинувшись на спинку дивана. Притом же и самый процесс составления был довольно сложен. Белинский набросал сперва письмо карандашом на разных клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно набело и потом снял еще с готового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ, выходящий из рамки частной, интимной корреспонденции. Когда работа была кончена, он посадил меня перед круглым столом своим и прочел свое произведение. Я испугался и тона, и содержания этого ответа, - и, конечно, не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание. В письме заключалось не одно только опровержение его мнений и взглядов: письмо обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования - вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил. Я хотел объяснить Белинскому весь объем его страстной речи, но он знал это лучше меня, как оказалось. "А что же делать? - сказал он. - Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорблял меня в душе моей и в моей вере в него". Письмо было послано, и затем уже ничего не оставалось делать в Зальцбрунне. Мы выехали в Дрезден, по направлению к Парижу. Здесь, забегая вперед, скажу, что по прибытии в Париж Герцен, уже поджидавший нас, явился в отель Мишо, где мы остановились, и Белинский тотчас же рассказал ему о вызове, полученном им от Гоголя, и об ответе, который он ему послал. Затем он прочел ему черновое своего письма. Во время чтения уже знакомого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Герцен шмыгнул, чтобы сказать мне на ухо: "Это - гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его". Вы только отчасти правы, увидев в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель. Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, что я считал любовь свою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большого числа и которые в свою очередь тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги Ваши - и нелитературные - Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. д. - и литературные, которых имена Вам известны*. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была бы произвести на публику то же впечатление. И если ее приняли все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей**, - в этом виноваты только Вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далека; а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы, в этом прекрасном далеке, живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, - права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр - не человек; страны, где люди сами себя называют пе именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостою плетью***. * (Белинский имеет в виду хвалебные отзывы представителей реакционной печати - Булгарина, Сенковского. Булгарин, например, писал: "Последним сочинением он, Гоголь, доказал, что у него есть сердце и чувство и что он дурными советами увлечен был на грязную дорогу...") ** (Многие - в том числе и сам Белинский - несправедливо заподозрили вначале Гоголя в своекорыстии, в преследовании личных выгод и угождении власти. Однако в своем письме Белинский прежде всего негодует против самих идей книги.) *** (По желанию Николая I в "Уложении о наказаниях" 1845 года наказание кнутом заменили увеличенным количеством ударов плетью.) Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя как будто в зеркале, - является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругать их неумытыми рылами!.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас, как за эти позорные строки... ...Тут дело идет не о моей или Вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас; тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили Ваши прежние. ...я был спасен "Современником". Мой альманах, имей он даже большой успех, помог бы мне только временно. Без журнала я не мог существовать. Я почти ничего не сделал нынешний год для "Современника", а мои 8 тысяч давно уже забрал. Поездка за границу, совершенно лишившая "Современник" моего участия на несколько месяцев, не лишила меня платы. На будущий год я получаю 12 000. Кажется, есть разница в моем положении, когда я работал в "Отечественных записках". Но эта разница не оканчивается одними деньгами: я получаю много больше, а делаю много меньше. Я могу делать, что хочу. Вследствие моего условия с Некрасовым мой труд больше качественный, нежели количественный; мое участие больше нравственное, нежели деятельное*. Не Некрасов говорит мне, что я должен делать, а я уведомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужным делать. Подобные условия были бы дороги каждому, а тем более мне, человеку больному, не выходящему из опасного положения, утомленному, измученному, усталому повторять вечно одно и то же. А у Краевского я писал даже об азбуках, песенниках, гадательных книжках, поздравительных стихах швейцаров клуба (право!), о книгах, о клопах, наконец, о немецких книгах, в которых я не умел перевести даже заглавия; писал об архитектуре, о которой я столько же знаю, сколько об искусстве плести кружева. Он меня сделал не только чернорабочим, водовозною лошадью, но и шарлатаном, который судит о том, в чем не смыслит пи малейшего толку. Итак, то ли мое новое положение, доставленное мне "Современником"? "Современник" - вся моя надежда; без него я погиб в буквальном, а не в переносном значении этого слова. * (Для журнала "Современник" Белинский, уже больной, успел написать, помимо рецензий, два больших литературных обзора: "Взгляд на русскую литературу 1846 года" и "Взгляд на русскую литературу 1847 года" и статью "Ответ "Москвитянину" (ответ реакционному журналу, который отличался угодливостью перед правительством). В этой статье Белинский подверг особенно резкому осуждению теорию славянофилов, вскрыл ее классовую - барскую - природу и опроверг их притязания на особую, якобы только им, славянофилам, свойственную любовь к России и русскому народу. Он изобразил их в лице барича, "который изучал народ через своего камердинера и думает, что любит его больше других, потому что сочинил или принял на веру готовую о нем мистическую теорию".) ...иногда, впрочем, <Белинский> очень грустил, но грусть эта была особого рода, - нет, не от сомнений, не от разочарований, о нет - а вот почему не сегодня, не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я его встретил утром, часа в три пополудни, у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой. - Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце. Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался... Милостивый государь Михаил Максимович. Из последней Вашей ко мне записки я увидел, что Вы пе получили моего ответа на первую, - ответа, который я вручил Вашему же посланному. Это обстоятельство вдвойне для меня неприятно и прискорбно: и Вы, и его превосходительство Леонтий Васильевич <Дубельт> может думать, что я отлыниваю и как будто хочу притаиться не существующим в этом мире, потому что и не являюсь и не даю от себя никакого отзыва. Если бы я и действительно предвидел себе в этом приглашении беду, - и тогда такая манера избегнуть ее была бы слишком детскою и смешною. Ваша первая записка сначала, точно, привела меня в большое смущение и даже напугала, тем более что нервы у меня все это время так раздражены, что и менее важные обстоятельства действуют на меня тяжело и болезненно; но потом я скоро успокоился, тем более что был уверен в доставлении Вам моего ответа. В нем писал я к Вам, что по болезни не выхожу из дому. Я и теперь еще не оправился, и доктор запретил мне ходить до тех пор, пока не просохнет земля и не установится теплая погода. Теперь же для меня, как для всех чахоточных, самое опасное время: чуть простудишься слегка, и опять появятся ранки на легких, как это уже не раз со мною было. Конечно, я не в постели, и только без опасности для моего здоровья не могу выйти из дому, по в крайности выйти могу. Только в таком случае я очень боюсь, что его превосходительство, вместо того, чтобы из разговора со мною узнать, что я за человек, узнает только, что я кашляю до рвоты и до истерических слез... Со спины моей не сходят мушки да горчичники, и я с трудом хожу по комнате. Смею надеяться, что такие причины могут дать мне право, не боясь навлечь па себя дурного мнения со стороны его превосходительства, отсрочить мое с ним свидание еще на некоторое время, пока не установится весна и я не почувствую себя хоть немного крепче. Будьте добры, Михаил Максимович, как Вы прежде бывали ко мне добры, потрудитесь уведомить меня, могу ли я поступить так. Меня пользует главный доктор Петропавловской больницы г. Тильман: он может подтвердить справедливость моих слов о состоянии моего здоровья. В надежде Вашего ответа, имею честь остаться Вашим, милостивый государь, покорным слугой. По какому поводу мог Белинский писать своему бывшему учителю в Пензенской гимназии М. М. Попову это письмо? Дело заключалось в том, что М. М. Попов давно перестал учительствовать и сделался жандармским чиновником. Он служил в Третьем отделении. Управляющим Третьим отделением (помощником Главного начальника) был Дубельт. В феврале 1848 года там возникло дело "о безыменном письме с возмутительным предсказанием насчет будущего в России". Старались найти анонимного автора, который выступил в своем письме против "неограниченного самовластия, тиранского для человечества". Мысли жандармов обратились к "Современнику" и к Белинскому, который давно рассматривался властями как бунтовщик. Было решено сопоставить почерки анонимного письма с почерками наиболее "опасных" журналистов, 20 февраля Белинскому и Некрасову были отправлены письменные приглашения пожаловать в Третье отделение для встречи с управляющим - Леонтием Васильевичем Дубельтом. Предлагалось тотчас же письменно известить, когда они прибудут. Так Третье отделение хотело достать нужные ему автографы. Не получив почему-то ответа, посланного Белинским, М. М. Попов 27 марта вторично написал ему. Он обещал "самый ласковый и радушный прием" со стороны Дубельта, который якобы хотел узнать критика лично "и даже сблизиться с ним". И также просил письменно уведомить о времени своего прихода. Уже почти при смерти Белинский писал свой ответ. В 1846 году поступил я в Инженерное училище в Петербурге... Осенью того же года Белинский вернулся с юга России, куда он ездил для поправления своего расстроенного здоровья, что, впрочем, к несчастию, ему совсем не помогло. Раз как-то, в том же самом году, совсем неожиданно получаю я от родственника моего Г. П.* письмо, в котором он описывает мне Белинского, его с ним встречи и под конец старается убедить меня искать его знакомства, которое, по его мнению, было бы мне чрезвычайно полезно... При этом он приложил в моем конверте письмо к Белинскому и просил его заняться развитием моих умственных способностей, то есть, одним словом,, несколько просветить меня. Г. П., читая в периодических изданиях сочинения Белинского, был сильно привлечен к его в высшей степени благородной, правдивой и честной личности. Но когда он после встретился с ним в Николаеве, сочувствие и уважение его к нему перешло в горячее чувство душевной привязанности, доходящей до увлечения, до какого-то благоговейного восторга. И впоследствии он не мог равнодушно говорить о нем и, вспоминая его, весь оживлялся, невольно поддаваясь обаятельному влиянию этого высокого ума, этой прекрасной души. * (Во время поездки с М. С. Щепкиным на юг Белинский познакомился в г. Николаеве с контр-адмиралом М. Б. Верхом и его семьей. Он писал жене; "Вчера мы обедали у контр-адмирала Верха - что за чудесный старик!., зять Верха, офицер, будет у нас часто бывать". Инициалами Г. П. обозначен именно этот молодой офицер. Автор мемуаров, младший сын контр-адмирала Берха, находился во время приезда Белинского в Николаев в Петербурге - держал экзамены в Военно-инженерное училище.) В то время мне было четырнадцать лет; в эти годы я был очень застенчив, стыдлив и неохотно решался исполнить поручение моего родственника. С каждым днем робость все более овладевала мною, и я все дальше откладывал предстоящий визит мой. "Писатель! ученый! мыслитель! - вертелось у меня в голове при мысли о Белинском, - замучает он меня совсем своими отвлеченностями, учеными терминами, - думал я, - забросает меня такими трудными, непонятными словами, что боже упаси. Нет, не пойду!" - решил я окончательно и действительно не пошел, запуганный его славою и страшась найти в нем сухого, строгого педанта. Но вот проходит год, и я снова получаю письмо от Г. П., который удивляется, что я до сих пор не был у Белинского, и убеждает меня и настаивает, чтоб я непременно побывал у него и что он уже давно обо мне знает... Делать нечего, надо идти. Но я все-таки промедлил еще несколько месяцев и наконец в один прекрасный день, а именно в субботу, когда кончились классы, собрался с духом и отправился на Лиговку, где жил тогда Белинский. Отыскав его квартиру, с замиранием сердца звоню робкой рукой. Мне отворила дверь краснощекая полная горничная, и, пока я снимал шинель, как-то мгновенно исчезла. Я остался один и решился войти в следующую комнату. Там стоял спиной ко мне, наклонясь к окну, какой-то мужчина и заклеивал замазкой разбитое окно. Он был в длиннополом, довольно ветхом и чуть ли не китайчатом халате. Я подошел ближе, он обернулся. Я увидел бледное, очень бледное, худое, истомленное лицо, такой же бледный лоб, на который небрежно падали темные волосы, остриженные в кружок, как у русского мужичка; из-под строгих бровей смотрели темные глаза, впалые, лихорадочные, с выражением суровости. - Виссарион Григорьевич Белинский, кажется, здесь живет? - заговорил я, обращаясь к незнакомцу. - Могу я его видеть? - Честь имею рекомендоваться, - было мне ответом, - я сам Белинский. Верно, я не сумел при этом скрыть своего удивления, потому что он едва заметно улыбнулся. Я отрекомендовался ему в свою очередь. - А! Так вы тот самый молодой человек, о котором мне в Николаеве говорил Г. П. Очень рад, очень рад, садитесь, пожалуйста. И он приветливо протянул мне руку, и лицо его прояснилось, и с глаз как будто сбежала суровость, замененная теперь более мягким, более добрым выражением. Мы сели: он на диван у стола, я поместился против него па стуле. Было что-то чрезвычайно располагающее к нему в его обращении, чуждом всякой натянутости, светского лоска, принужденности; он смотрел так открыто, слова его дышали такой искренностью, неподдельной откровенностью и правдой, что мигом исчезла моя робость, и я свободно отвечал ему на вопросы, которые он мне делал. Очень скоро и как-то незаметно разговор наш или, лучше сказать, его речи перешли к предметам серьезным. В то время (это уже было в 1848 году) он почти ничего не писал*. Не считая возможным входить в подробности, замечу только, что многое в жизни тогда давило и угнетало его, но и при более благоприятных обстоятельствах он вряд ли мог бы много писать, так расстроено и слабо было его здоровье. Но деятельный ум его не был способен усыпляться, и он тогда совершенно был поглощен политикой и событиями Запада. Февральская революция вспыхнула во Франции, и большая, обширная комната, в которой мы находились, носила на себе следы тогдашних его занятий. Всюду висели и лежали географические карты, тут около них теснились книги, идущие к делу, планы и т. п. Он в то время был в переписке с кем-то из своих знакомых или приятелей, жившим в Париже и посылавшим ему все горячие, животрепещущие вести оттуда**. Белинский начал с того, что заговорил со мною о политических делах Франции, изъясняя влияние переворотов ее на другие государства. Он говорил так просто, разъяснял так легко, так понятно самые трудные вещи и в немногих словах умел выразить многое. Я слушал его с наслаждением, с жадностью. Целый новый мир идей и мыслей раскинулся передо мною, и я с увлечением отдался этим новым впечатлениям. Одно смущало меня и возбуждало во мне какое-то болезненное чувство, это - видимое, но тщетное усилие Белинского победить телесную боль. Он говорил с трудом, тихим, прерывистым, хотя и одушевленным голосом. Он говорил, и речи его кипели мыслями, жизнию, но видно было, что это давалось ему не легко. Он даже несколько раз совершенно прекращал речь свою, пил воду и, отдохнув, начинал снова. Так продолжалось часа два. Ему даже трудно было прямо сидеть, и он все время полулежал на диване. Наконец я встал, с тем чтобы раскланяться, боясь дольше его беспокоить. Он не удерживал меня, но очень приветливо приглашал снова к себе побеседовать. Я поблагодарил и удалился. Все время на обратном пути я предавался размышлениям о всем мною слышанном. Тогда я очень любил театр и нередко наслаждался искусной игрою артистов; но теперь я понял, что есть наслаждение выше этого, и решил, что свободное от учебных занятий время буду стараться посвящать исключительно беседам Белинского. Я только досадовал, что так долго добровольно лишал себя знакомства с таким человеком, каков Белинский. В самом деле, речи Виссариона Григорьевича подействовали на меня живительно, благодатно. Мне дышалось как-то легче, я чувствовал себя и лучше и добрее, а новых мыслей целый рой столпилось в голове моей, мало-помалу рассеивая и прогоняя мрак неведения и недозрелых или превратных понятий. С этих пор я каждую субботу бывал у Белинского; и всякий раз, поздоровавшись со мною, он начинал говорить мне о том, что казалось ему полезным для молодого моего ума. * (Последние работы Белинского, напечатанные в апрельском номере "Современника", это две рецензии и некролог великому русскому актеру П. Мочалову, умершему 16 марта 1848 года.) ** (Речь идет о французской революции 1848 года. П. В. Анненков в письме к братьям из Парижа передавал свои впечатления о первых днях революции. Этот отчет о том, что "произошло у него перед глазами", он просил показать Белинскому. По свидетельству Герцена, "зарево революции" Белинский "принимал за занимающееся утро".) И я слушал его все с новой жаждою, и с каждым разом речи его имели новый интерес для меня, и все более сроднялся я с ними, и все более становились они мне понятнее и казались глубже и шире прежнего. В самом деле, они были полны глубокого значения и смысла. В них было все, что могло поглощать всю душу истинного гражданина, горячо и бескорыстно привязанного к своей отчизне. Несмотря на множество врагов, у Белинского было много и друзей; но все время моих посещений я никогда никого не встречал у него посторонних, и мне всегда казалось, что он жил как будто отдельно от всего остального мира. Семейство его состояло из жены и дочери. Раза два я заставал жену его за письмами, которые он диктовал ей в Париж. Но при моем приходе она тотчас же удалялась и только изредка приходила за каким-нибудь делом в комнату, где мы сидели, и то ненадолго, не прерывая нашей беседы. Маленькая рыженькая девочка, дочь их, также забегала иногда к нам, но через мгновение ее снова не было, она скрывалась в других комнатах. Квартира Белинского была просторная, н в ней незаметной казалась та подавляющая бедность, бывшая всю жизнь уделом этого труженика. Между прочим, началась весна. Воспитанники инженерного училища уходили на лето в лагерь. Мне очень жаль было Петербурга, потому что я надолго должен был лишить себя удовольствия слушать Белинского, к которому я успел душевно привязаться. Однажды я был у него п заговорил о лагере. Он сожалел, что не увидит меня, и, между прочим, советовал не терять дорогого времени, а в свободные летние дни заняться чтением полезных книг, о выборе которых он обещал позаботиться сам. Я благодарил его и отвечал, что очень хотел бы воспользоваться его добротой, только боялся за участь его книг, и признался ему, что читать у нас, кроме учебников, строго запрещено и что все другие книги без разбора отбираются от воспитанников дежурными офицерами и часто просто-напросто сжигаются ими в печке... Выслушав это, Белинский медленно и злобно улыбнулся. Я и прежде знал его мнение о тогдашнем превратном воспитании юношества и теперь понял эту улыбку, за которой, впрочем, через секунду последовал целый взрыв гневных и едких выражений, которыми взбешенный Белинский клеймил беспощадно невежество. До лагеря еще оставалось несколько недель, но я решился не так часто беспокоить его своими посещениями. Я замечал в нем с каждым разом перемену к худшему. Я видел, что ему все труднее становилось говорить. Мне было больно смотреть, как он тяжело дышал, как усиленно произносил слова, как болезненно подымалась его грудь, как часто замирал голос и прерывалось дыхание. И вместе с этим видимое усилие победить немощь, и мучительная борьба мощного духа над слабым телом; все это так надрывало душу, так томило ее горьким состраданием, бессильным, глубоким сожалением. Верный своему решению, я действительно некоторое время не был у Белинского, но наконец соскучился и в один день, кончив классы, поспешил на Лиговку. Погода была удивительно ясная, теплая, и что случается редко, и в Петербурге воздух был хорош; солнечный день так и блестел, так и сверкал. Прихожу и замечаю в комнатах беспорядок, что-то похожее на переборку. "Верно, едут на дачу", - подумал я, обводя глазами комнату. Белинского не вижу, а навстречу мне вышла жена его. - Виссарион Григорьевич, верно, уже переехал на дачу? - обратился я к ней. - Да, - отвечала она, - переехал туда, откуда уже не вернется. Я онемел, не веря своим ушам и не смея выговорить своего сомнения. - Он умер двадцать восьмого мая*, - прозвучал тихий ответ вдовы. * (Ошибка мемуариста: Белинский умер 26 мая.) С ее стороны не было ни ахов, ни вздохов, ни слез, а печаль такая глубокая, но ровная, не порывистая. Она просила меня сесть и сама села, и в первый и в последний раз мы разговорились друг с другом. Она говорила мне о последних минутах своего мужа: как постепенно угасали его силы, как он все еще боролся со смертью, но под конец обессилел совсем. Но за несколько минут до кончины он, лежащий в постели уже без сознания, вдруг быстро приподнялся, вскочил на ноги, сделал несколько шагов по комнате и сказал в коротких и прерывистых словах речь, обращенную к народу русскому. Я спрашивал, не записана ли у нее эта речь, но она отвечала, что только отрывками, и то несвязными, можно было слышать его слова и что целый смысл потерян совершенно, за невнятностию большей части фраз. Тяжело ли было у меня па душе, предоставляю судить всякому, кто потрудится представить себя на моем месте. Еще госпожа Белинская сказала мне несколько отрадных слов в отношении покойного ко мне. - Виссарион Григорьевич, - говорила она, - вас любил, верил вам и был убежден, что вы, как говорится, "из избы не вынесете сора" и что ваш ум гораздо серьезнее направлен, чем бы можно было ожидать от мальчика шестнадцати лет". Но я не знаю, как этот серьезный мальчик удержался и не заплакал навзрыд. Мне было больно, что ни разу не был я у него, когда он умирал, страдая. Я боялся задержать госпожу Белинскую в ее хлопотах и простился. Она уехала с дочерью в Москву, и после я ее уже не видал. В последние часы жизни Белинского к нему в квартиру, ночью, явился адъютант генерала Дубельта... Умирающий Белинский был уже в бреду и без сознания; завидя гостей, он приподнялся в постели и стал говорить "речь к народу"... Мария Васильевна, сообщавшая этот факт г. Иванову, говорила, что эта "речь", произнесенная в бреду и почти в предсмертной агонии, была так жгуча и увлекательна, как никогда... Она и 4-летняя дочь стояли у кровати. Бледен и молчалив был жандармский офицер... "Маша! растолкуй им, - они не понимают!.." - проговорил умирающий, указывая на жандармов... Немногие петербургские друзья провожали тело его до Волкова кладбища. К ним присоединились три или четыре неизвестных, вдруг бог знает откуда взявшиеся*. Они оставались до самого конца печальной церемонии на кладбище и следили за всем с величайшим любопытством, хотя следить было ровно не за чем. Белинского отпели и опустили в могилу, как и всякого другого, и огорченные друзья его бросили молча по обычаю горсть земли в его могилу... * (То есть агенты тайной полиции.) |
|
|
